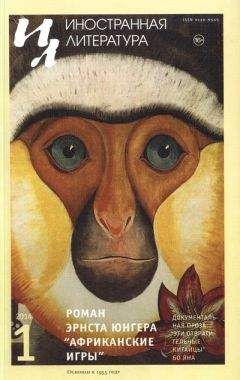Вероятно, по этой причине Полюс старался не замечать тех коротких переговоров, которые я в перерывах проводил с Массари. В продолжение этих дней Массари исполнял мои поручения и контрабандой доставлял мне всевозможные вещи, которые скрашивали мое пребывание в заключении: например, апельсины, сигареты, спички, свечи и испанские газеты. Правда, курить в камере запрещалось; но караульный, если и заходил в камеру, как правило, ограничивался тем, что с многозначительной улыбкой втягивал носом воздух. А вот со светом следовало проявлять осторожность; но я придумал, как жечь под одеялом свечные огарки, и в этом странном кабинете для чтения приобрел достаточно детальные теоретические познания о корриде.
Помятуя советы Профессора, я сразу подал ходатайство, чтобы мне разрешили посещать вечерние занятия, так что часовой отводил меня на уроки и доставлял обратно. Для чудака-профессора это стало одним из подтверждений притягательности его интеллектуальной силы, на что он охотно ссылался.
Все эти дни я видел Бенуа лишь мельком — в узком коридоре, где мы поутру приступали к службе и откуда солдаты, уже получившие начальную подготовку, в это же время отправлялись в один из внутренних дворов, чтобы до полудня заниматься там маршировкой с полной выкладкой. Когда Бенуа проходил мимо меня, мне иногда удавалось сунуть ему что-нибудь из своих контрабандных запасов. Он, судя по всему, пребывал в хорошем настроении, поскольку узнал, что его фамилия внесена в список солдат, отобранных для весенней транспортировки в Аннам.
Для меня десять суток в камере тоже пролетели быстрее, чем я ожидал, хотя и не так интересно, как у фельдъегерей: ведь когда вместе сидят два добрых товарища, это скорее отдых, чем наказание.
25
В последний день заключения, когда я уже ждал, что меня вот-вот выпустят на волю, события вдруг приняли неожиданный оборот, что и положило конец моей африканской авантюре.
В камеру вошел угрюмый Полюс, сопровождаемый часовым, и с таинственным видом сообщил мне, что должен сейчас же препроводить меня к полковнику. Такое начало не предвещало ничего хорошего: я предположил, что все-таки пропал какой-то предмет выданного мне снаряжения или что обнаружились контрабандные делишки Массари. Поэтому я смирился с мыслью, что проведу в этой дыре еще несколько суток, хотя и мечтал нынче ночью наговориться всласть с Франци — после того как в спальне потушат свет. Да и Леонард пригласил меня на вечер в кафе, чтобы отпраздновать такой день…
Мои опасения усилились, когда я заметил, что встретивший нас полковник явно не в духе. Тем более я удивился, когда он, без видимой надобности сложив в стопку лежащие на столе бумаги, сухо сообщил мне, что поступило распоряжение о моем увольнении. Потом, словно речь шла о чем-то само собой разумеющемся, он дал поручение Полюсу: позаботиться, чтобы завтра в полдень меня посадили в поезд, следующий в Оран. Я воспринимал происходящее как во сне, где ты вдруг оказываешься неподвластным силе тяготения…
Когда нас отпустили, Полюс на минуту задержался со мной в вестибюле; тут-то я в первый и последний раз увидел на его лице нечто похожее на улыбку. Он пожал мне руку, ограничившись словами:
— Для вас это наилучший исход.
В казарме такого рода события быстро становятся предметом всеобщего обсуждения. Как только мы с Полюсом вошли в нашу спальню, меня окружили поздравляющие — в основном те же люди, что еще недавно в воротах казармы не скупились на издевки в мой адрес. Я понял: даже незаслуженный успех порождает симпатию к счастливчику, тогда как неудачник непременно навлечет на себя насмешки даже со стороны собратьев по несчастью.
Капрал Давид вручил мне пришедшее на мое имя срочное письмо: там отец подробно сообщал, как ему, не без больших хлопот и денежных затрат, удалось благополучно завершить мое щекотливое дело. Письмо было выдержано в доброжелательном тоне, не принуждало меня испытывать острое чувство стыда. Но я и так уже отчасти утратил былую самоуверенность, чему немало способствовали десять дней, проведенных в камере. Старик писал, что после побега из гимназии, этого удивительного доказательства моей самостоятельности, я, как он считает, должен сам определить, где и чему учиться дальше; он лишь настоятельно просит, чтобы я отправился в Нанси и там на почте получил переведенную на мое имя сумму, которой хватит на приобретение новой одежды. Такая мера показывала, что отец хотел бы как можно скорее вновь увидеть меня в северных краях.
Несмотря на множество дел во второй половине дня, мне удалось вечером встретиться с Леонардом, который теперь обращался со мной как с человеком, сорвавшим большой куш. Он с таинственным видом намекнул, что и сам ожидает такого же поворота судьбы; я слушал его с чувством неловкости, похожим на то, с каким в детстве смотрел на обреченных курочек в нашей кухне. Как я узнал позднее, брат Леонарда связался с одним из тех провинциальных сыщиков, что берутся за безнадежные случаи, и, потратив много денег, послал его в Бель-Аббес. Сыщик, очевидно, оказался полной бездарью, ибо сразу по выходе из вокзала был арестован иммиграционной полицией.
Несмотря на этот проблеск надежды в словах Леонардо, я еще яснее, чем при первой встрече с ним, понял, что он предчувствует свою скорую гибель. Бывает страх, притягивающий беду, словно магнит, — а может, напротив, дело тут в том, что будущие, неизбежные события как бы заранее отбрасывают на жизнь человека тень, которая парализует его волю и приводит в уныние сердце… Мне самому были чужды такие состояния тоски и внутреннего разлада, и, хотя позднее я еще не раз с ними сталкивался, прошло много времени, прежде чем я сумел осознать положение человека, которого покинул его гений-хранитель.
Я очень жалел, что не смог лично попрощаться с Бенуа. Я оставил Леонарду письмо для него, вложил в конверт последние свои деньги. Через много лет мне довелось снова встретить Шарля Бенуа; он остался моим другом. Я простился также с Франци и Массари, со всеми, с кем здесь познакомился. Мой земляк Хуке, чья физиономия со времени посещения желтых дам переливалась разноцветными синяками, поручил мне передать наилучшие пожелания нашему с ним родному городу, и я выполнил эту просьбу, поскольку думаю о Хуке всякий раз, когда мой путь пролегает по улице, название которой он когда-то — в дни своего заточения у фельдъегерей — выцарапал на стене.
26
Утром следующего дня я обменял свою форму на легкий синий костюм. А также подписал бумагу, где говорилось, что я не буду предъявлять претензий, связанных с моим пребыванием в гарнизоне. Я сделал это с тем большей готовностью, что доставил здешнему начальству много лишних хлопот.
Полковник, видимо, думал так же, поскольку сказал на прощание (когда Полюс привел меня к нему, чтобы снять с учета): — Как долго вы у нас пробыли? Три недели, и из них почти половину — в кутузке? Недурно: если наберется еще сколько-то парней вашего сорта, придется устроить для них летнюю дачу.
Я пообещал, что меня он тут больше не увидит; и мог бы добавить, что маленькие издержки, возникшие из-за меня, при наличии столь дешевой рабочей силы никакого значения не имеют, — да только подобные декларации мне несвойственны.
Ближе к вечеру Полюс доставил меня на вокзал и, когда я уже сидел в вагоне, вручил мне проездной билет и заграничный паспорт: в знак того, что я снова очутился в той части мира, где необходимо иметь при себе персональные документы. Когда поезд еще только подходил к платформе, он крепко пожал мне руку и впервые произнес мою фамилию с правильным ударением.
— Счастливого пути, Бергер, и больше не делайте глупостей!
— И вам всего хорошего, Паулус! — крикнул я в ответ, тоже назвав его Паулус, а не Полюс.
И с ним тоже мне не хотелось расставаться: ведь в момент прощания навсегда чуть ли не каждый человек, которого мы знали, кажется значимым и достойным любви — или, лучше сказать, предстает в истинном облике. Бог свидетель, как плохо я усвоил последний совет своего ефрейтора. Этот мрачный человек был одним из лучших солдат, какие мне попадались. Выбитый из привычной жизненной колеи в результате загадочного стечения обстоятельств (как часто бывает даже с лучшими людьми), он не превратился в безответственного ландскнехта, а всецело подчинил себя задачам новой службы, пожертвовав ради нее и собственными амбициями, и даже привязанностью к отечеству. Вероятно, в этом и заключалась подлинная причина его неизбывной печали.
Я с радостным чувством катил к побережью. Рядом со мной сидел попутчик, уволенный в тот же день и одетый в такой же синий костюм, что и я. Грудь его украшал длинный ряд медалей; я разглядел на них названия стран, о которых прежде даже не слышал. Каштановая окладистая борода спускалась чуть ли не до пояса.