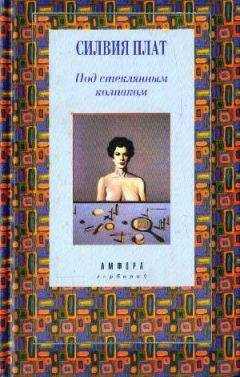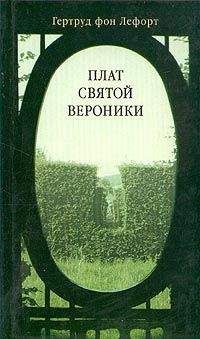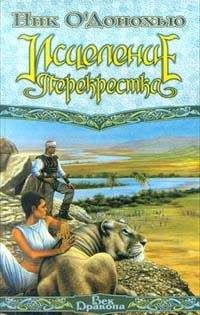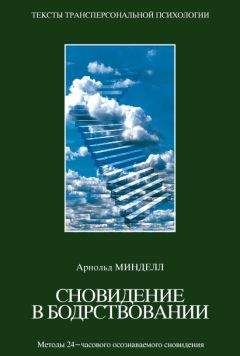Единственная возможность утонуть представлялась прямо здесь, в открытом море.
Поэтому я прекратила плыть.
Я прижала руки к груди, опустила голову и нырнула, расталкивая воду локтями. Морская толща надавила мне на уши и стиснула сердце. Я изо всех сил стремилась вниз, но, прежде чем мне удалось осознать, где я нахожусь, море выплюнуло меня на солнце и весь мир вокруг меня засверкал, как синие, зеленые и желтые полудрагоценные камни.
Я вытряхнула воду из глаз.
Я была без сил, как после страшного физического напряжения, но море несло меня, как на плоту, по своим волнам.
Я нырнула еще раз, потом еще раз — но каждый раз море выталкивало меня, как пробку из бутылки шампанского.
Серый камень смеялся надо мною уже в открытую; казалось, он качался на волне, как спасательный буй.
И я осознала, что и на этот раз потерпела поражение.
Я повернула к берегу.
* * *
Цветы кивали мне головками, как умные и сознательные дети, пока я тащила их по всему холму.
Я чувствовала себя в своей серо-зеленой доброволщической униформе совершенной идиоткой и вдобавок к этому абсолютно не на своем месте, в отличие от одетых в белое докторов и медсестер и даже от носящих коричневые халаты уборщиц с вечными метлами и ведрами грязной воды, — и все они проходили мимо меня, не удостоив и словом.
Если бы мне платили, пусть самую малость, я в конце концов могла бы назвать это настоящей работой, но единственной наградой за раскладку журналов и конфет и расстановку цветов по вазам служил мне бесплатный ленч.
Мать сказала, что лучшее лекарство для человека, который слишком много о самом себе размышляет, — это помощь тем, кому приходится еще хуже, чем тебе, поэтому Тереза устроила меня на правах добровольной помощницы в местную больницу. Попасть сюда в таком качестве было трудно, потому что среди молодых дам города это занятие было довольно модно, но, к счастью для меня, большинство из них разъехалось по случаю летних вакаций.
Я надеялась, что меня определят присматривать за кем-нибудь из по-настоящему тяжелобольных, — и он увидит на моем строгом страдальческом лице, как я переживаю за него, и почувствует ко мне благодарность. Но начальница над добровольными помощницами, общественная деятельница и ревностная посетительница церкви, едва взглянув на меня, приговорила:
— В послеродовое отделение.
И я поднялась на три этажа на лифте, попала в послеродовое отделение и отрекомендовалась старшей медсестре. А она указала мне на столик на колесиках, весь уставленный цветами. Моей задачей было разнести цветы по палатам и к постелям тех, кому они были посланы, причем ничего не перепутав.
Но стоило мне подойти к дверям первой же палаты, как я заметила, что один из букетов растрепался и крайние цветы в нем уже начали увядать. Я подумала о том, как горько будет женщине, только что разрешившейся от бремени и произведшей на свет дитя, получить в подарок большой букет мертвых цветов, поэтому я подкатила свой столик к рукомойнику, расположенному в стенной нише, и принялась выбирать из букета увядшие цветы.
Вслед за увядшими я выбрала все, которые начали увядать или же были близки к этому.
Нигде поблизости не было мусорного ведра или корзины, поэтому я смяла цветы и бросила их в раковину. Раковина была на ощупь холодна, как могила. Я улыбнулась. Так, должно быть, здесь кладут тела усопших в больничный морг. И движение моих рук, пусть и едва заметное, невольно повторило куда более размашистые жесты докторов и медсестер.
Я широко распахнула двери палаты и вошла, катя перед собой столик с цветами. Несколько медсестер повскакали со своих мест, а я вроде бы как в тумане увидела истории болезни и шкатулки с лекарствами.
— Что тебе нужно? — строго спросила одна из медсестер. Я не смогла бы в точности определить какая: все они были для меня на одно лицо.
— Я разношу цветы.
Медсестра, только что разговаривавшая со мной, положила мне руку на плечо и осторожно вывела меня из палаты, одновременно с этим выталкивая мой столик на колесиках свободной и опытной рукой. Она раскрыла дверь в соседнее помещение и подтолкнула меня по направлению к ней. А сама исчезла.
Я слышала, как они хихикают у себя в кабинете, пока дверь в палату не закрылась за мной, отсекая их хотя бы на время.
В палате было шесть коек, и на каждой находилось по роженице. Все женщины в данную минуту сидели, занимаясь вязанием, листая журналы или накручивая бигуди, и болтали, как попугайчики в большой клетке.
Я почему-то предполагала, что найду их спящими или хотя бы спокойно лежащими и непременно бледными и мне придется, чтобы не потревожить их, красться на цыпочках, сверяя номера коек с номерами на ленточках, привязанных к вазам с цветами, но, прежде чем мне представился шанс со всем этим разобраться, яркая развеселая блондинка с резкими чертами треугольного лица поманила меня к себе.
Я начала приближаться к ней, оставив столик посредине палаты, но тут она сделала нетерпеливый жест, и я поняла, что ей хочется, чтобы я подкатила к ней столик.
Так я и поступила, то ли высокомерно, то ли заискивающе ей улыбаясь.
— Эй, а где там мои цветочки? Где мой дельфиниум?
Огромная костистая особа из другого конца палаты вперила в меня орлиный взор.
Остролицая блондинка наклонилась над столиком.
— Вот мои чайные розы, — произнесла она. — Но почему-то вперемешку с каким-то вшивым ирисом.
В палате зазвучали голоса и остальных женщин. Звучали они громко, упрямо, и слышалась в них какая-то обида.
Я только было раскрыла рот, чтобы объяснить им, что выкинула в раковину ворох увядшего дельфиниума и что в некоторых вазах было так мало цветов, что я добавила туда, взяв из других, как вдруг дверь палаты широко распахнулась и на пороге появилась медсестра, примчавшаяся сюда, чтобы выяснить, что, собственно говоря, происходит.
— Сестричка, у меня был большой букет дельфиниума! Ларри принес его мне прошлым вечером.
— Она перемешала мои чайные розы с какой-то дрянью.
Бросившись бежать, я на ходу стянула с себя зеленую униформу и запихнула ее в ту же раковину, где покоились увядшие цветы. И затем помчалась через ступеньку вниз по пустынной черной лестнице, и, к счастью, никто не попался мне навстречу.
* * *
— Как пройти на кладбище?
Итальянец в черной кожаной куртке остановился и указал пальцем на аллею, идущую от белой методистской церкви. Эту церковь я помнила. Я была методисткой до девяти лет, а потом мой отец умер, мы переехали и обратились в унитарианское вероисповедание.
До обращения в методизм моя мать была католичкой. Дед и бабка и тетя Либби так и остались католиками. Тетя Либби простилась с католицизмом одновременно с моей матерью, но потом влюбилась в итальянца, который, разумеется, был католиком, и возвратилась в лоно покинутой было церкви.
Позднее я и сама начала задумываться над тем, не перейти ли мне в католичество. Я знала, что самоубийство считается у католиков страшным грехом. Но если так, они, возможно, особенно постараются удержать меня от этого шага.
Разумеется, я совершенно не верила в загробную жизнь, в непорочное зачатие, в инквизицию, в непогрешимость этого человечка с обезьяньим лицом, которого они называют папой, и во все такое прочее; но ведь объявлять об этом священнику было вовсе не обязательно — я могла всецело сосредоточиться на своих собственных грехах, а он помог бы мне в них покаяться.
Беда была в том, что церковь, даже католическая, не в состоянии занять и заполнить твою жизнь всецело. Можешь сколько угодно молиться и преклонять колени, тебе все равно придется есть три раза в день, ходить на работу и жить в миру.
Мне хотелось узнать, какой стаж католичества нужно иметь, чтобы получить возможность уйти в монастырь, и я спросила об этом у матери, полагая, что она способна подсказать мне оптимальное решение.
Мать, однако же, рассмеялась:
— Думаешь, они тебя просто так, с бухты-барахты, и возьмут? Надо знать назубок катехизис и все молитвы и, главное, надо веровать, твердо и непоколебимо. А девицу-то вроде тебя — да ни в коем разе!
Тем не менее я постоянно играла с мыслью о том, чтобы пойти на исповедь к какому-нибудь бостонскому священнику — непременно к бостонскому, потому что мне не хотелось, чтобы кто-нибудь из священников в моем городке узнал о том, что я подумываю о самоубийстве. Все священники — невероятные сплетники.
Я оденусь в черное — это-будет хорошо контрастировать с моим мертвенно-белым лицом — и брошусь в ноги священнику, и воскликну: «Отец, помогите мне!»
Но такие мысли одолевали меня, пока люди не начали то втихомолку, то явно надо мной потешаться, вроде как эти медсестры в больнице.
Я была абсолютно уверена в том, что католики не принимают к себе в монастыри душевнобольных. Муж тетушки Либби как-то раз шутя рассказал насчет одной монахини, прибывшей на осмотр к Терезе. Эта монахиня постоянно слышала игру невидимых арф, и какой-то голос нашептывал ей на ухо «аллилуйя». Однако в ходе беседы с врачом она не смогла со всей уверенностью сказать, было ли звучавшее у нее в ушах слово именно «аллилуйя», а не «Аризона». Монашка была родом из Аризоны и, полагаю, провела остаток своих дней в сумасшедшем доме.