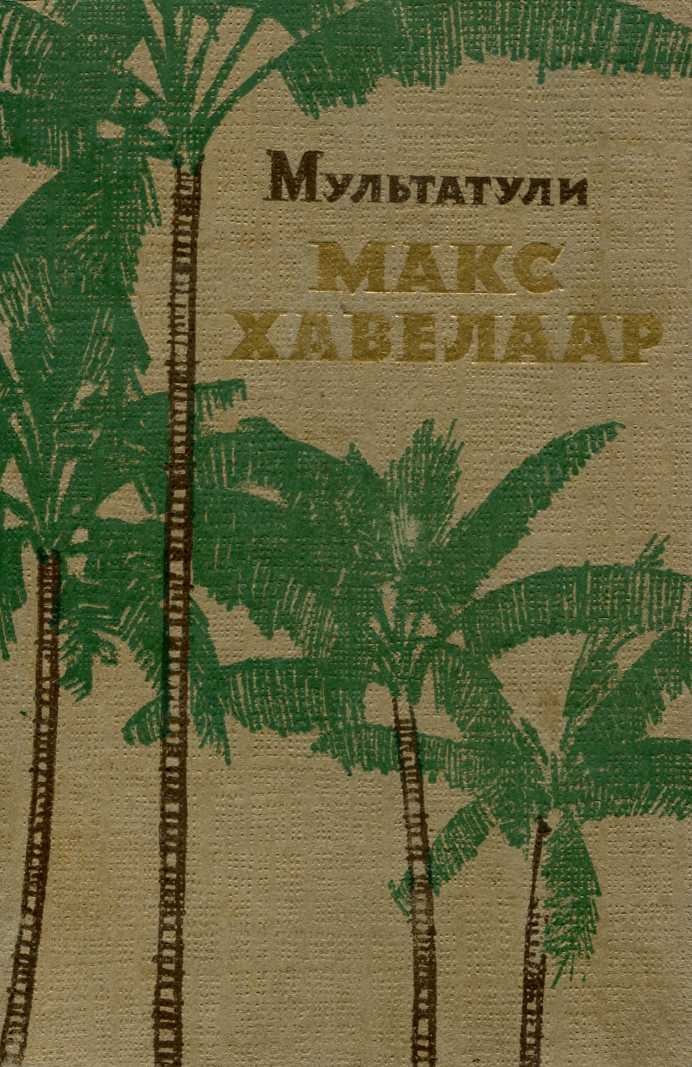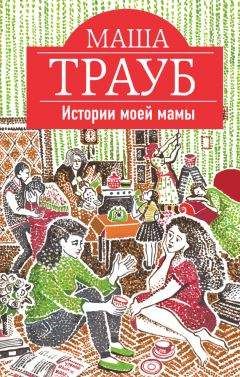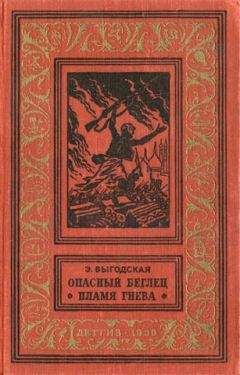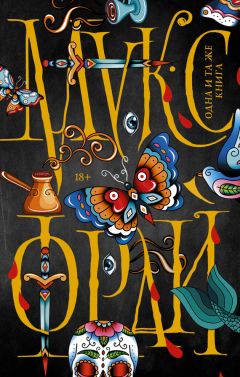Его образы, всегда заимствуемые из окружающей жизни, были для него действительно вспомогательным средством, делавшим более понятным то, что он хотел сказать, а не докучливыми привесками, которые, как это часто случается, лишь отягощают фразы ораторов, не прибавляя ни малейшей ясности к представлению о том предмете, о котором идет речь.
В настоящее время уже никого не коробит фальшь сравнения: «сильный, как лев». Но тот, кто первым употребил в Европе это сравнение, лишь обнаружил, что оно почерпнуто им не из вдохновенной поэзии образов, заставившей его выразиться именно так, а не иначе, но просто-напросто позаимствовал это общее место из какой-нибудь книги, может быть из библии, где речь шла про льва. Ни ему самому и никому из его слушателей не представлялось случая видеть воочию силу льва, и потому понятие об этой силе скорее следовало бы им дать, сравнив льва с кем-нибудь, чья сила им хорошо известна, а не наоборот.
Несомненно, Хавелаар был настоящим поэтом; когда он говорил о нагорных рисовых полях, он устремлял свой взор через открытую сторону галереи и действительно видел эти поля; когда он говорил о дереве, которое спрашивает о человеке, некогда ребенком игравшим у его корней, это дерево действительно жило в его воображении и представлении его слушателей и действительно искало взглядом исчезнувших жителей Лебака. Он ничего не выдумывал. Он слышал речь дерева, и ему казалось, что он лишь повторяет то, что так ясно возникло перед его поэтическим воображением.
Если бы кто-нибудь высказал предположение, что непосредственность в манере Хавелаара говорить не так уж бесспорна и что в стиле своей речи он подражает пророкам Ветхого завета, я напомнил бы такому человеку уже однажды мною сказанное: да, действительно в минуты вдохновения Хавелаар становился похож на пророка, на провидца! И я думаю, что Хавелаар, долго живший на лоне дикой природы, среди лесов и гор, проникнувшийся поэтической атмосферой Востока, наверное бы не мог говорить иначе, даже если бы никогда и не читал ни единой вдохновенной строки из Ветхого завета.
Уже в стихотворении, написанном им в молодости на вершине Салека (один из великанов, но не самый высокий, в горах Преангера), читаем мы строфы, в которых глубокое религиозное чувство находит отклик в раскатах грома:
Молиться легче мне на выси горной,
Где я душою ближе к небесам,
Где сам господь возвел нерукотворный,
Людской стопой не оскверненный храм.
И здесь, среди вершин и скал зубчатых,
Склоняюсь пред незримым алтарем.
Мою хвалу творцу в своих раскатах
За мной, как эхо, повторяет гром.
И разве не ясно, что ему никогда бы не написать последней строки, как она у него написана, если бы и в самом деле он не слышал раскатов божьего грома в горах, откликавшегося на слова его молитвы?
(Фриц говорит: алтарем и гром — плохая рифма. По-видимому, Шальман и стихи-то как следует писать не умеет! Правда, данное стихотворение написано им еще в молодости. Б. Дрогстоппель.)
И, однако, Хавелаар не любил стихов. Он называл их «противными путами», и если его просили что-нибудь продекламировать из своих творений, он доставлял себе удовольствие испортить собственное же произведение, то ли начиная читать его тоном, делавшим стихи смешными, то ли — вдруг и в самом патетическом месте — прерывая чтение и вставляя какую-нибудь шутку, что всегда производило на слушателей неприятное впечатление, но что для него самого являлось не чем иным, как злой насмешкой над несоответствием между «противными путами» и вольным порывом его души, которой в путах этих было тесно.
Лишь немногие из главарей отведали предложенного им угощения. Хавелаар, по-видимому умышленно, прервал свою речь, чтобы дать слушателям возможность выпить чаю с маниесаном [93]. И, кроме того, он хотел дать им немного передохнуть, а в передышке они и в самом деле нуждались.
«Как? — должны были подумать главари. — Он уже знает, что столь многие покинули наш округ с горечью в сердце? Он знает уже, сколь многие семейства переселились в соседние округа, чтобы уйти от царящей здесь нужды? Ему известно даже то, что многие бантамцы находятся среди отрядов, поднявших в Лампонге знамя восстания против нидерландского правительства? Чего он хочет? К чему стремится? К кому относятся его вопросы?»
Некоторые из них посмотрели на радена Вира Кусума [94], главу района Паранг-Куджанга, но большинство опустило глаза.
— Макс, поди сюда! — позвал Хавелаар, заметив сына, игравшего во дворе усадьбы. Мальчик подбежал, и регент посадил его к себе на колени. Но Макс был слишком резвым ребенком, чтобы долго усидеть на одном месте. Он тут же соскочил и побежал вдоль большого круга, от главаря к главарю, забавляя их своей болтовней и проявляя большой интерес к изукрашенным рукояткам их мечей. Когда он достиг джаксы, привлекшего его внимание своим более пышным, чем у остальных, нарядом, джакса показал сидевшему рядом с ним кливону на головку маленького Макса и что-то тихо ему сказал.
— Теперь уходи, Макс, — велел Хавелаар, — папа должен кое-что сказать этим господам. — Мальчик убежал, предварительно послав собравшимся воздушный поцелуй.
А Хавелаар продолжал:
— Главари Лебака! Мы все состоим на службе его величества, короля Нидерландов. Но он, справедливый и желающий, чтобы мы выполняли наш долг, находится далеко отсюда. Тридцать раз тысяча и даже более душ должны выполнять его волю, сам же он не может находиться близ каждого, кто от его воли зависит.
И великий господин в Бёйтензорге тоже справедлив и тоже хочет, чтобы мы все выполняли свой долг. Но и он, как бы могуществен он ни был и какой бы властью ни обладал над всеми городами и селениями, над войском и над бегущими по морю кораблями, — он точно так же не в состоянии уследить, где творится неправда, ибо находится далеко от того места.
И резидент в Серанге, господин над землею Бантама, где живет пятьсот раз тысяча душ, тоже хочет, чтобы в подвластных ему владениях царила справедливость; но если в них сотворится зло, он находится слишком далеко, чтобы это увидеть. А человек, сотворивший зло, сам постарается уйти от его взгляда, ибо страшится кары.