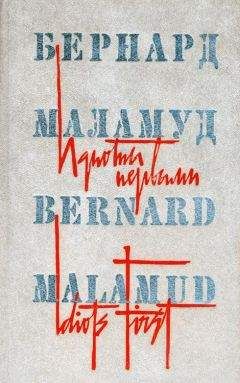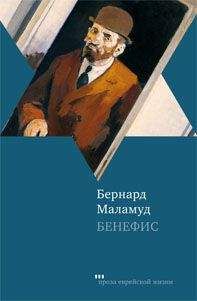Постояв перед зеркалом в туалете, Аркин бесцельно обошел все этажи художественной школы, а затем побрел вниз, в студию Рубина. Постучал в дверь. Никто не ответил. Он нажал ручку и, заглянув в студию, окликнул Рубина.
За окнами нависала ночь. Студия освещалась множеством пыльных лампочек, но самого Рубина не было. Был только лес скульптур. Аркин прошелся среди железных цветов и обломков каменных статуй: хотел проверить — не ошибся ли. И почувствовал, что прав.
Он рассматривал карликовое деревце, когда дверь открылась и появился Рубин в фуражке инженера-путейца.
— Прекрасная работа, — выдавил Аркин, кивнув на деревце. — Лучшая здесь, на мой взгляд.
Ошеломленный Рубин, красный от мгновенно вспыхнувшей злобы, уставился на Аркина; на его впалых щеках в последнее время отросли рыжеватые бакенбарды, а глаза в этот миг были не серыми, а отчетливо зелеными. Он возбужденно зашевелил губами, но ничего не сказал.
— Рубин, простите меня, я пришел сказать, что перепутал шляпы. Я тогда ошибся.
— Ошиблись, черт подери.
— Простите, нескладно получилось. И простите, что все зашло так далеко.
— Далеко, черт подери…
И Рубин заплакал, хотя пытался сдержаться изо всех сил. Плакал молча, его плечи тряслись, а слезы сочились меж грубых узловатых пальцев, закрывавших лицо.
Аркин быстро ушел.
Они перестали избегать друг друга; встречаясь, хоть и нечасто, мирно беседовали. Однажды Аркин, войдя в туалет, застал Рубина в той самой белой шляпе, которая якобы походила на шляпу Рембрандта: Рубин внимательно разглядывал себя в зеркале. Шляпа сидела на нем как венец крушения и надежды.
Ангел Левин
Пер. Л. Беспалова
На портного Манишевица на пятьдесят первом году жизни посыпались одна за другой всевозможные невзгоды и беды. Человек изрядного достатка, он за ночь потерял все, что имел: в его мастерской начался пожар, огонь перекинулся на железный контейнер с моющей жидкостью, и мастерская сгорела дотла. Хотя Манишевиц был застрахован, но при пожаре пострадали два клиента, они потребовали возмещения убытков по суду, и их иски поглотили все его сбережения до последнего гроша. Чуть не одновременно его сына — и такого способного мальчика! — убили на войне, а дочь — и хоть бы слово сказала — вышла замуж за какого-то прощелыгу и будто сквозь землю провалилась, только ее и видели. Вот тут Манишевица стали мучить боли в спине, он даже гладить — а другой работы не нашлось — и то мог часа два в день, не больше, потому что долго стоять на ногах был не в силах: боль в спине становилась все нестерпимее. Фанни, жена и мать каких мало, подрабатывала на дому стиркой, шитьем, но вскоре начала чахнуть на глазах. Стала задыхаться, а потом захворала всерьез и слегла. Доктор — он раньше шил у Манишевица и теперь из жалости лечил их — не сразу поставил диагноз, но потом все-таки определил, что у нее склероз артерий в прогрессирующей стадии. Отвел Манишевица в сторону, предписал Фанни полный покой и, понизив голос, дал понять, что надежды почти нет.
Манишевиц сносил все испытания едва ли не стоически: у него, похоже, не укладывалось в голове, что они выпали на его долю, а не постигли, скажем, какого-то знакомого или дальнего родственника; уже одно обилие несчастий было необъяснимо. И к тому же нелепо и несправедливо, а так как он всегда был человеком набожным, отчасти даже кощунственно. Вера в это поддерживала Манишевица во всех его невзгодах. Когда бремя страданий становилось непереносимым, он садился в кресло, закрывал запавшие глаза и молился:
— Боженька, любимый, ну что я такого сделал, за что Ты меня так наказываешь?
Тут же понимал тщетность своих вопросов, оставлял пени и смиренно молил Бога помочь ему:
— Сделай так, чтобы Фанни опять была здоровая, а я сам не мучился болью на каждом шагу. Только сегодня, завтра уже будет поздно. Да что Тебе говорить — или Ты не знаешь?
И Манишевиц плакал.
* * *
В убогой квартирке Манишевица, куда он перебрался после разорившего его пожара, из мебели только и было что пара-тройка жидких стульев, стол и кровать; находилась квартира в одном из самых бедных кварталов города. Состояла она из трех комнат: тесной, кое-как обклеенной обоями гостиной, кухни с деревянным ледником — горе, а не кухни — и спальни побольше — там на продавленной подержанной кровати лежала, ловя ртом воздух, Фанни. В спальне было теплее, чем в остальной квартире, и Манишевиц, излив Богу душу, при свете двух тусклых лампочек на потолке располагался здесь с еврейской газетой. Не сказать, чтобы читал — мысли его витали далеко; но как бы там ни было, его глаза отдыхали на печатных строках, и когда он давал себе труд вникнуть — одно слово тут, другое там помогало ему, пусть ненадолго, забыть о своих невзгодах. И вскоре он не без удивления обнаружил, что живо проглядывает новости в поисках интересных для себя сообщений. Спроси его, что именно он ожидает прочесть, он бы не ответил, но чуть погодя осознал, к своему глубокому удивлению, что надеется найти что-нибудь про себя. Манишевиц отложил газету, поднял глаза: у него создалось впечатление, что в квартиру вошли, хотя дверь вроде бы не стукнула. Он посмотрел вокруг — в комнате было удивительно тихо, Фанни, раз в кои-то веки, не металась во сне. Он забеспокоился, долго смотрел на нее, пока не убедился, что она дышит; потом — мысль о необъявившемся госте не оставляла его — заковылял в гостиную, где его ждало потрясение — и какое: за столом сидел негр и читал газету, сложенную вдвое, чтобы было удобнее держать в одной руке.
— Что вам нужно? — спросил оробевший Манишевиц.
Негр отложил газету, кротко поднял глаза на Манишевица:
— Здравствуйте!
Держался он неуверенно, словно попал к Манишевицу по ошибке. Крупного сложения, костистый, головастый, в твердом котелке — при виде Манишевица он и не подумал его снять. Глаза негра глядели печально, зато губы под щеточкой усов пытались улыбнуться; больше ничего располагающего в нем не обнаружилось. Манишевиц заметил, что обшлага у него совершенно обтерханы, а темный костюм сидит мешковато. Ножищи несообразно громадные. Оправившись от испуга, Манишевиц смекнул, что забыл запереть дверь и к нему зашел инспектор патронажной службы министерства социального обеспечения, ведь он недавно подал прошение о пособии, а кое-кто из них приходил иногда по вечерам. И только тогда, стараясь не стушеваться — уж очень неопределенно негр улыбался ему, — опустился на стул напротив. Бывший портной, хоть и сидел весь зажавшись, терпеливо ожидал, когда инспектор вынет блокнот с карандашом и начнет опрос, но вскоре понял, что он пришел не затем.
— Кто вы такой? — собравшись с духом, спросил наконец Манишевиц.
— Если мне позволено, насколько это нам вообще дано, назвать себя, я ношу имя Александр Левин.
Манишевиц, как ни был расстроен, не удержался от улыбки.
— Вы говорите — Левин? — вежливо осведомился он.
Негр кивнул:
— Совершенно точно.
Манишевиц решил подыграть ему.
— И может быть, вы еще и еврей? — сказал он.
— Всю мою жизнь я был евреем и другого удела не желал.
Портной усомнился. Он слыхал о чернокожих евреях, но никогда ни одного не встречал. И оттого ему было не по себе.
По зрелом размышлении его поразило, что Левин употребил прошедшее время, и он недоверчиво спросил:
— И что же, теперь вы уже больше не еврей?
Тут Левин снял шляпу, обнажив черные волосы, разделенные очень белым пробором, но сразу же надел ее опять. И ответил:
— Недавно меня перевоплотили в ангела. В качестве такового я предлагаю вам свою скромную помощь, если предлагать ее в моей компетенции и моих силах, из самых лучших побуждений. — Он виновато опустил глаза. — Тут не избежать дополнительных объяснений: я тот, кем мне даровано быть, но в настоящее время полное воплощение — еще дело будущего.
— Ну и из каких же вы ангелов? — серьезно спросил Манишевиц.
— Я bona fide[20] ангел Божий в пределах предоставленных мне полномочий, — ответил Левин, — просьба не путать с членами других сект, орденов и организаций, развернувших свою деятельность здесь, на земле, под этим же названием.
Манишевиц был в полном смятении. Чего-то вроде он ожидал, но никак не этого! И если Левин таки ангел, Он что, смеется над верным слугой, который с детства, можно сказать, не выходил из синагоги и всегда покорен был словам Его?
Желая испытать Левина, он спросил:
— И где же тогда ваши крылья?
Негр покраснел насколько мог. Лицо у него переменилось — вот почему Манишевиц догадался.
— При неких обстоятельствах мы лишаемся привилегий и прерогатив по возвращении на землю, какие бы цели мы ни преследовали и кому бы ни пытались оказать помощь.
— Ну и как же вы сюда попали? — сразил его вопросом Манишевиц.