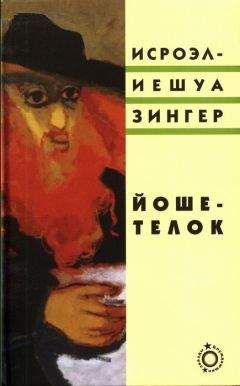Свадьбу играли второпях, и под хупу молодых повели еще засветло, чтобы не оставаться вечером на кладбище.
У семейного склепа реб Борехла, женского ребе — того самого склепа, где Цивья таскалась по ночам с чужими парнями, — теперь поставили хупу. Под звуки веселых маршей, которые Шимшон-знахарь перенял у казацких музыкантов, в мерцающем свете свечей люди взяли жениха и невесту под руки и повели к хупе.
По дороге кое-что произошло.
Одна молодая женщина, мать умершего ребенка, по дороге к хупе увидела могилу сына и припала к холмику.
— Хаимл! — закричала она. — На кого ты меня покинул?
Вместе с ней заголосили и другие женщины. Но реб Мейерл быстро унял этот приступ скорби.
— Женщины, не плачьте! — приказал он. — На свадьбе надо радоваться.
Марши реб Шимшона загромыхали так, что плача уже не было слышно.
— А ну, живей, веселей! — подзадоривали друг друга музыканты.
Несколько женщин взялись за калач — большой свадебный калач, покрытый позолотой, украшенный птицами и лесенками из теста, — и пустились в пляс. Они танцевали задом наперед, пылко, развязно. Хлеб они поднимали вверх, не давая мужчинам выхватить его, и галдели:
— Гоп, гоп, молодые, гоп!
Маленькие девочки водили хоровод, писклявыми голосами напевая свадебную песенку:
Мы от крыши до земли
Все домишки подмели,
Все кроватки застелили,
Всех дочурок нарядили…
Цивью прямо-таки подбрасывало, люди еле удерживали ее, чтобы не запрыгала. Йоше стоял под хупой безмолвно и неподвижно. Он даже не надел невесте кольцо на протянутый палец.
— Ну, жених, исполни святой обряд, — подбодрил его раввин.
Тот не шевельнулся. Люди взяли его руку и поднесли к пальцу невесты.
Никто даже не слышал, чтобы он произнес «Ты посвящена мне»[148].
Один Куне говорил потом, будто он слышал.
Реб Мейерл нахмурился, но в конце концов сдался.
— Ладно, — сказал он, — поздравляю молодых!
Так же немо и неподвижно сидел Йоше после хупы за свадебным столом рядом с новобрачной. Цивья шумно хлебала бульон, уплетала кушанья за обе щеки и подталкивала мужа локтем:
— Хи-хи-хи, вку-у-сно… почему Йоше не ест? Хи-хи-хи…
Он ни слова не сказал людям, что пригласили его к своему столу и пили за его здоровье. Даже реб Мейерлу, раввину, Йоше не подал руки.
— Телок он и есть телок, — раздраженно говорили гости.
Жениху досталось много подарков. Богатые люди давали три рубля, зажиточные — рубль, кто победнее — полтину, ремесленники — пятиалтынный. Шимшон-знахарь каждую сумму увеличивал втрое:
— Богач реб Мойше Мехелес жалует три рубля с желтой изнанкой…
Желтая изнанка была у рублевой ассигнации.
Все спешили, подгоняли церемонию. Никто не хотел оставаться вечером на кладбище.
По домам расходились торопливо. Люди чувствовали себя спокойнее, оставив каменную кладбищенскую ограду далеко за спиной. Только на рыночной площади им начали приходить на ум греховные мысли о новобрачных. В первый раз такое случилось, когда они вели беременную невесту к хупе; это породило у них дурные мысли, которых не надо бы позволять себе на кладбище.
Когда гости ушли, Куне-шамес собрал еду со стола и неспешно понес ее в дом. Так же неспешно он пересчитал подаренные жениху деньги и положил все за пазуху.
Он залез на печь, где всегда спал Йоше, и погасил лампу.
— Дети, — сказал он, — вы будете спать в кровати.
Цивья бросилась на кровать почти не раздеваясь. Она устала от танцев, шума и веселья. У нее выдался тяжелый день, слишком тяжелый для ее большого срока. Она сразу же захрапела, как и ее отец на печи.
Йоше даже не подошел к кровати.
Некоторое время он молча стоял посреди комнаты. Слушал шелест деревьев за окном, два храпа — низкий и тоненький, стрекот сверчка за печкой; он слушал затаив дыхание, не шевелясь. Когда часы захрипели в ночи и с кряхтеньем начали бить, Йоше тихо нашарил в углу свой залатанный мешок, в который он положил тфилин и камень для равновесия. Нащупал палку. Затем тихо отворил дверь и вышел в ночную тьму.
Едва рассвело, проснулась Цивья и, увидев пустую комнату, принялась громко кричать. Она сразу же почувствовала, что он ушел, и стала плакать, реветь, как мучимое болью животное.
Куне-шамес слез с печи, взял в одну руку фонарь, хотя было уже светло, в другую — палку и обыскал все кладбище. Но он не нашел Йоше. Шамес отправился в город, в бесмедреш, обошел все улицы. Йоше нигде не было. Куне разбудил Авиша-мясника, тот вытащил из кроватей всех мясников. Люди ходили по всем дорогам. Его не нашли.
— Нет твоего Йоше, — сказал Куне дочери, — оставил тебя соломенной вдовой.
Цивья надела на свою бестолковую остриженную голову парик, вокруг живота повязала широкий фартук, как все жены. Теперь в городе ее называли не по имени отца, а по имени мужа. «Йошина Цивья», — говорили о ней.
В большом деревянном нешавском бесмедреше, что построили на время сразу после пожара, да так и оставили на пятнадцать лет, царит оживление.
Сегодня двенадцатый день тамуза, йорцайт старого Нешавского ребе, отца реб Мейлеха. Собралось множество хасидов. На кладбище, у гробницы цадика, горят сотни свечей, люди бросают на надгробную плиту тысячи записок, писцы сидят за столами, строчат записки и торгуются:
— Крейцеров не беру! Меньше кроны — и говорить не о чем.
Женщины в платочках держатся в стороне. Они не смеют подойти к гробнице цадика, где собралось так много мужчин. Молятся издалека, стоя, словно нищие у дверей дома. Мальчики из бедных семей стоят с корзинками и продают свой товар: свечки, бумагу, даже пирожки и водку. Мужчины пьют за здоровье друг друга посреди кладбища.
Реб Мейлеха, старика за восемьдесят, косматого, с зеленовато-седыми, как будто моховыми, бровями и бородой, ведут на кладбище под руки.
— Дорогу! Дайте дорогу! — кричит габай Исроэл-Авигдор.
Борода Исроэла-Авигдора теперь скорее седая, чем рыжая, но он еще силен. Каждый день он нюхает все более крепкий табак, пропитывает его водкой, подсыпает перца, чтобы проняло. Мед пьет квартами.
— Имейте уважение! — кричит он людям, что толпятся вокруг старого ребе. — Не все сразу!
Теперь он усердно оберегает ребе, куда больше, чем раньше. Ребе слаб, он зачастую не узнает в лицо своих хасидов, почтенных обывателей и богачей. Его сыновья — уже пожилые люди, которые не могут дождаться, когда к ним перейдут полномочия ребе, — больше не боятся отца, как в прежние годы. При живом отце они в открытую ведут хасидские застолья, принимают записки, берут плату за советы и отбивают друг у друга хасидов. Больше всего они гоняются за богачами и раввинами.
У Исроэла-Авигдора от этого душа болит. Он знает, что двор хасидского ребе — как, не будь рядом помянут, двор императора. Сила его заключается в династии. Должен остаться кто-то один. Только так можно удержать хасидов. Если разделять власть, все разваливается. Исроэл-Авигдору известно, что дети ребе ненавидят его, как и он их. А еще они боятся габая — он слишком много о них знает. И истово оберегает старого ребе, реб Мейлеха. Охраняет его как зеницу ока.
Ко двору ребе все время прибывают новые люди. Они обмениваются приветствиями, молятся, пьют за здоровье друг друга.
Вдруг в бесмедреше появляется чужак с мешком на плечах и палкой в руке. Едва он переступает порог, все поднимают глаза и с любопытством вглядываются в него. Ешиботники, оторвавшись от Талмуда, принимаются рассматривать вошедшего.
Это долговязый, костлявый мужчина с черной как смоль бородой и пейсами, большими черными глазами, в одежде, сплошь покрытой пылью, — видно, от дальних странствий. Подпоясан он веревкой. Башмаки сильно истоптаны. И мешок на его плечах старый, очень пыльный и залатанный. Палка слишком длинная для него, толстая и сучковатая. Он перекладывает ее из правой ладони в левую, освободившейся рукой касается мезузы и целует пальцы. Затем скидывает с плеч мешок и моет запыленные черные руки под медным рукомойником.
Люди подходят к нему, протягивают руки.
— Здравствуйте.
— Здравствуйте.
— Откуда вы?
— Отовсюду, — отвечает чужак.
Людям становится не по себе. Они спрашивают у него еще что-то, но тот молчит, избегает разговоров. Вынимает из мешка талес и тфилин, надевает — но он покрывает голову талесом иначе, чем остальные. Это вызывает у всех удивление. Еще сильнее люди удивляются, когда чужак надевает на себя сразу две пары тфилин. Он молится, стоя у двери.
После молитвы хасиды хотят угостить его водкой и медовой коврижкой. Он качает головой, показывая, что не хочет пить.
— Сегодня йорцайт старого ребе, блаженной памяти, — говорят они.