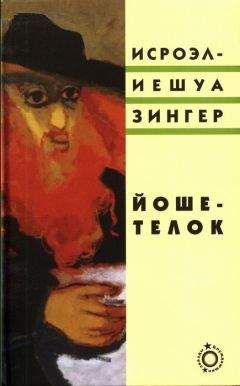— Ты все это помнишь? — спрашивает он.
— Да, помню, — говорит она. — Я даже помню, что в тот день готовили на обед. Кашу с молоком. Тогда ведь случилось несчастье, не будь нынче помянуто, с Малкеле, да покоится она с миром, и ее ребенком. Поэтому ничего мясного не готовили.
— Гм, — бурчит ребе.
— Я пошла наверх, в учебную комнату, и принесла Нохемче стакан молока и коржик, он же целый день ничего не ел. Но его там не было. Только книга лежала. Открытая.
— Псалмы, — говорит чужак.
— Да, — говорит Сереле. — Псалмы.
Она умолкает, задумавшись, потом грустно добавляет:
— Молоко так и осталось стоять на столе.
Она произносит это с такой печалью, будто ей до сих пор жалко того стакана молока.
— Приглядись к нему еще раз, Серл, — говорит ребе, — будь очень внимательна. Скажи, ты узнаешь его?
Серл подходит совсем близко к чужаку, как велит ей отец. Она пристально разглядывает его высокую костлявую фигуру, черные как смоль глаза и бороду. От него веет дорогой, пылью, силой и теплом. Жаркая дрожь пробегает по всему ее телу.
— Да, — твердо отвечает она, сама поверив в то, что говорит, — да, да.
Ребе поднимает мохнатые брови.
— Серл, — спрашивает он, — быть может, ты знаешь и другие приметы? Не стыдись. Быть может, есть какие-то знаки на его теле?
Она опускает глаза и молчит.
— Дочь, — говорит ребе, — ты соломенная вдова. Говори!
— Да, — отвечает Серл, — у него на боку шрам, след от операции, которую ему делали в детстве.
Она осекается, краснеет, потом говорит:
— И еще у него две родинки на спине, рядышком.
— Исроэл-Авигдор! — зовет ребе. — Ступай с гостем в микву и осмотри его. А ты, Серл, сядь на скамью.
Исроэл-Авигдор и чужак выходят через боковую дверь, ведущую к микве.
Серл подходит к мешку чужака, берет его в руки. Нежно касается пыльной залатанной ткани. Каждая неровность, каждая шероховатость волнует ее кровь. Она ласкает мешок. Ребе, нахмурившись, глазеет по сторонам и молчит. Вскоре возвращается Исроэл-Авигдор с гостем.
— Ребе, — с жаром говорит он, — все так, как сказала Сереле. Я осмотрел реб Нохема с ног до головы.
Ребе встает. Его обычно хмурое стариковское лицо сияет. Зеленоватые, как мох, космы трясутся.
— Поздравляю! — говорит он.
Затем подходит к дочери и тихо добавляет:
— Веди себя как подобает еврейской женщине. Я скажу Исроэл-Авигдору, когда надо будет затопить баню…
Полное лицо Сереле пылает. Она стесняется поднять глаза.
Ребе велит Исроэлу-Авигдору заказать для гостя новый, приличный наряд. Сереле, хочет вмешаться, сказать, что все вещи Нохемче до сих пор висят в шкафу в том же виде, в каком он их оставил; что она, Сереле, берегла их все это время, посыпала нафталином, чтобы моль не съела, и, если только они не стали ему малы и тесны, он может их надеть. Но она стесняется заговорить, не может даже вымолвить двух слов, тех самых, что стоят у нее в горле вот уже пятнадцать лет: «Почему, Нохемче?»
Ее глаза, опущенные долу, видят лишь пыльные истоптанные башмаки чужака. Она еле слышно бормочет смуглому чернобородому гостю:
— Может, поешь чего-нибудь?
Впервые после разлуки она обращается к нему на «ты».
Весть о том, что Нохемче, зять ребе, вернулся в Нешаву, разлетелась по всем городам и местечкам по обе стороны границы. Хасиды пили водку, закусывали коврижкой и поздравляли друг друга.
К субботе все почтенные хозяйки Нешавы накупили лучшего изюма и корицы, каждая испекла жирный кугл[152] и отправила Сереле, дочери ребе.
— Для дорогого гостя, — говорили посыльные, осторожно приподнимая крышку над куглом.
Богачи присылали еще и вино.
Сереле давала детям-посыльным грецкие орехи и миндаль. А приживальщики при дворе ребе всласть отпраздновали субботу со всеми куглами, что принесла им Сереле.
Все дети ребе, сыновья и дочери, тоже слали сестре подарки: куглы, бутылки вина, фрукты в серебряных корзинках. Но они были не рады новому человеку в доме, нет.
Загадочен был этот гость, непонятен, он молчал как о своем уходе, так и о возвращении. Ни единым словом не обмолвился — ни о своей жизни, ни о месте, где он пробыл все это время, ни о своем нынешнем появлении при дворе ребе. Он лишь протягивал руку, когда с ним здоровались, и молчал. Даже Сереле он ничего не сказал; только в первый день, придя к ребе, проронил несколько слов:
— Так было нужно.
Больше от него ничего не могли добиться. В этом было нечто загадочное, даже пугающее. Хасиды видели в этом величие, таинство, святость. К тому же вернувшийся беглец почти не показывался на люди. Он молился один, у себя в комнате, в бесмедреш не ходил, даже на хасидском застолье не появлялся. Только от обитателей двора люди знали, что он все время проводит в своей учебной комнате: или сидит за книгами, или ходит взад-вперед. Иногда на рассвете можно было увидеть, как он пересекает двор, возвращаясь из миквы, перелетает его — торопливо, с широко раскрытыми глазами, не видящими ничего перед собой. Иногда он, тоже в одиночку, отправлялся в поля, а то и вовсе на кладбище. Возвращался он так же неожиданно, внезапно, как и уходил. Все это несколько пугало людей, но вместе с тем завораживало, вызывало трепет. И сыновья ребе стали бояться чужака, дрожать перед ним.
Ребе стар. С каждым днем его старость дает о себе знать все больше и больше. Видит он все хуже, слышит все слабее. Его дети не ладят между собой. Отбивают друг у друга хасидов, непрестанно лицемерят перед ними, наговаривают друг на друга. Дни ребе, похоже, сочтены. Его детям неспокойно, они боятся, что все хасиды уйдут от них к загадочному чужаку.
А Исроэл-Авигдор именно этого и добивался.
Ему хотелось удержать хасидов вместе, в целости. Он знал, что каждый из сыновей хочет урвать себе кусок, а о нешавском дворе и не думает. И возвращение беглеца пришлось очень кстати. Теперь Исроэл-Авигдор непрестанно вертелся среди хасидов, особенно среди почтенных обывателей и богачей. Он угощал каждого крепким табаком, указывал волосатым пальцем в угол двора — на окна комнаты, где сидел, запершись, пришелец, — и говорил очень тихим, таинственным голосом:
— Говорю вам, тут дело непростое.
— Да, Исроэл-Авигдор, — со страхом кивали старики, — совсем непростое, да…
И сам реб Мейлех пребывал в удивлении, в тревоге.
Он мало беседовал с пришельцем. Нешавский ребе теперь вообще мало разговаривал. Он ослаб, и разговоры давались ему с трудом. К тому же чужак не отвечал. Даже когда реб Мейлех рассказал зятю, что его отец — Рахмановский ребе — и мать скончались от горя, тот промолчал. Сказал лишь одно слово:
— Знаю.
И больше ничего.
Старик испугался, не знал, что и думать. Он послал за Сереле в надежде узнать что-нибудь от нее. Но и та ничего не знала.
— Он исполняет супружеский долг? — спросил ребе.
— Иногда, — ответила она и опустила голову.
— Он разговаривает с тобой? — осведомился отец.
— Нет, — сказала Сереле. — Только сидит за книгами, запрется и сидит. Я боюсь с ним заговаривать, а сам он молчит.
Больше ребе ни о чем не спрашивал.
— Ну, иди, — прогнал он дочь из комнаты, как всегда, — иди, иди.
Его трепет перед пришельцем стал еще сильнее.
— Не поймешь его, — сказал ребе Исроэлу-Авигдору.
Исроэл-Авигдор тут же разнес слова ребе по всей округе.
Люди преисполнились благоговения. Женщины даже принялись заранее осаждать комнату пришельца. Они сразу же почуяли в нем цадика, великого чудотворца.
От Нешавского ребе женщинам было мало радости. Чем старше он становился, тем яростнее отгонял их от себя. Даже приказал Исроэлу-Авигдору не пускать женщин на порог. Тот гнал их, но не всегда мог устоять перед соблазном денег. За рейнский гульден он «забывал» охранять двери ребе, и женщины пробирались внутрь. Но ребе даже не желал отвечать плачущим просительницам.
— Ну, иди, иди! — говорил он. — У меня нет сил.
Если какая-то из них упорно приставала к нему, хотела во чтобы то ни стало получить помощь, реб Мейлех бранил ее.
— Убирайся ко всем чертям, — рычал он, — чего пристала? Езжай к кому другому, ребе везде полно.
Его сыновья приятельствовали с женщинами, брали у них записки, деньги, но, как только явился чужак, все просительницы тут же столпились у его запертой двери.
— Святой человек! — причитали они у Сереле под окном. — Впустите несчастную мать.
Но никто не отзывался.
Люди приезжали из городов и местечек, только чтобы взглянуть на зятя ребе. Ученые мужи собирались беседовать с ним, вместе изучать Писание. Юноши, которые намеревались оставить жен и детей, чтобы всецело посвятить себя религии, очень хотели расспросить его о выбранном ими пути. Каббалисты почуяли тайные знаки и приехали, чтобы постигнуть божественные смыслы. Но зять ребе никого не пускал к себе. Он сидел запершись на семь замков. Это еще больше притягивало, манило людей.