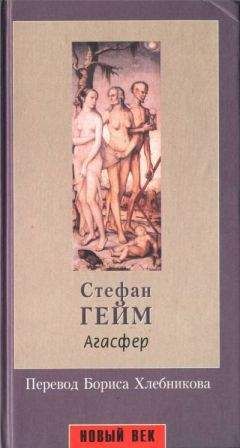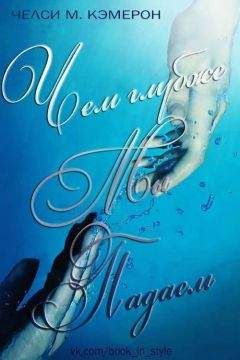«Вы, господин студиозус, желаете услышать, кто я таков? – проговорил незнакомец, засмеявшись своим невеселым смехом. – Я знаю, что вам покоя не будет, покуда вы этого не выясните. Недаром вы вчера говорили о порядке на земле и на небесах, у вас и в голове для всего должен быть такой же порядок, у каждой вещи свое место, своя полочка, свое отделение, а вот куда меня пристроить, вам невдомек».
И опять Эйцена поразило, насколько точно этот человек угадал его мысли, однако признаваться в том ему вовсе не хочется, поэтому, похлопав коня по потной шее, он пробормотал, что всему свое время, но если, мол, сударю угодно оставить свою историю при себе, то пусть так и будет, тем более что от слов прок невелик, все равно каждый видит другого человека по-своему.
Именно так, подхватил слова Эйцена его спутник, дескать, господин студиозус подметил самую суть: никому не дано исчерпать человеческую душу до дна, всегда останется какая-то тайна, ибо человек непрост.
Эйцен взглянул на своего приятеля со стороны – лицо заурядное, бородка, уголки бровей заострены, за левым плечом небольшой горб; пожалуй, ничего особенно необычного, но вдруг ему показалось, что за этой вполне реальной фигурой проступает какая-то другая, похожая на некую тень или туманность, а тут еще на солнышко набежало облако, кругом слегка потемнело, отчего Эйцену сделалось жутковато, и он пришпорил коня.
Сбежать он не пытался, от быстрого скакуна попутчика он все равно не смог бы уйти, это было ясно, поэтому он притормозил и дождался, пока неторопливый приятель не нагнал его, после чего спросил, что тот, собственно, имел в виду, когда сказал, что человек непрост.
«Каждый из нас раздвоен», – услышал он в ответ.
Кинув быстрый взгляд, Эйцен удостоверился, что некая туманность, окружавшая собеседника, исчезла; должно быть, это было просто обманом чувств, подобно тем ночным шагам. А поскольку все в голове Эйцена само собой укладывалось в привычные понятия, он сказал: «Ну, конечно. Ведь есть я и есть моя бессмертная душа».
«Да, – согласился новый приятель и засмеялся, только на сей раз в его смехе слышалась явная издевка. – Можно и так взглянуть на это дело».
Здесь в Эйцена закралось ужасное подозрение, гораздо более жуткое, чем все предыдущие, поэтому он настороженно спросил: «Уж не анабаптист ли вы, не перекрещенец ли из тех, что поклоняются в Мюнстере черту и творят всяческое непотребство? Как вы относитесь к крещению?»
«Раз уж вы так любопытны, господин студиозус, отвечу. По-моему, лучше всего крестить в малом возрасте. Даже если младенцу купель не принесет благодати, то уж по крайней мере не повредит, зато обряд будет исполнен, причем как лютеранский, так и католический».
Подобное мнение показалось Эйцену вполне разумным, хотя ему все-таки претила мысль, что внутри, может, сидит кто-то, кто способен выкинуть какую-нибудь штуку или, не дай Бог, ввести в грех и его самого, и бессмертную душу.
Лейхтентрагер пустил своего коня шагом. «Отец мой, – сказал он, – был глазным врачом Балтазаром Лейхтентрагером в Китценгене-на-Майне, а супруга его, Анна-Мария, была беременна мною на девятом месяце, когда по приказу нашего маркграфа Казимира ему вместе с другими шестью десятками горожан и крестьян из окрестных деревень выкололи глаза».
«Видать, попал ваш отец в компанию к бунтовщикам», – догадался Эйцен.
«А он сам и был одним из зачинщиков, – сказал Лейхтентрагер. – Когда народ стал собираться, кто в панцире, кто с копьем, то господа из городского совета Китценгена стали успокаивать людей, мол, бунт всем только повредит; тогда мой отец выступил с гневной речью о том, что народ не должен поддаваться на сладкие посулы, и что на приманку из сала ловят, мол, глупых мышей, и что настала наконец пора, чтобы полетели с плеч головы кровопийц».
«Да, ужасные то были времена, – важно изрек Эйцен. – Но, слава Богу, теперь они позади, благодаря писаниям доктора Мартинуса Лютера и решительным действиям властей». Говоря это, Эйцен задался вопросом, сколь еще силен бунтарский дух старшего Лейхтентрагера в его сыне, что скачет рядом.
Однако тот преспокойно жевал сорванный с придорожного дерева листок. Сплюнув его, он как ни в чем не бывало продолжил свой рассказ: «Отца моей матери по приказу маркграфа также ослепили за то, что он вытащил из церковной усыпальницы череп святой Аделоизы, основательницы женского монастыря в Китценгене и гонял его, будто шар, по полу; мой отец в тот день, когда ему выкололи глаза, умер от ужасных ран, а моя мать бежала из города со мной во чреве, поэтому и родился я, подобно младенцу Христу, по дороге, в хлеву, только не стояли вкруг меня волы и ослы, не оделяли меня волхвы своими дарами; матушка моя была совсем одна, она уронила меня, так я и стал с самого рождения калекой, хромым на одну ногу да горбатым».
«Да, трудное вам досталось наследство и от отца, и от матери», – не удержался от замечания Эйцен, а сам подумал, что от такого семени доброго плода ждать не приходится, однако вслух сказал: «И что же было дальше?»
Его собеседник вздрогнул, будто очнувшись от каких-то воспоминаний; поняв это движение по-своему, конь припустил галопом, так что Эйцену пришлось долго догонять его, прежде чем он услышал продолжение истории, то есть рассказ о том, как несчастная женщина, вконец обессиленная, донесла свое дитя до Саксонии, до Виттенберга, и там умерла, после чего военный лекарь Антон Фриз и его сердобольная жена Эльзбет взяли на воспитание сиротку, который еще и говорить-то не умел, только лепетал да плакал, прося материнской груди. «И за то им спасибо сердечное, – добавил Лейхтентрагер, – тем более что утех я им принес немного, ибо рос угрюмым, необщительным, и, когда другие говорили, то да се, мол, так было всегда, так уж, дескать, заведено, я начинал донимать людей вопросами, отчего они сердились и частенько меня поколачивали».
«Но есть вещи, про которые добрый христианин не спрашивает, как да почему», – с жаром сказал Эйцен.
«Если бы человек не задавал вопросов, все мы до сих пор оставались бы в раю. Только нот не утерпелось же Еве узнать, почему запрещено есть яблоко».
«Во-первых, она была глупой женщиной, – возразил Эйцен, – а во-вторых, ее змий искусил. Боже упаси нас от подобного змия».
«А я этого змия вполне понимаю, – сказал Лейхтентрагер. – Видел же он, что Бог дал человеку две руки, чтобы трудиться, и голову, чтобы думать, только зачем голова и руки в раю? Так и отсохли бы они в конце концов за ненадобностью, и что стало бы тогда с образом и подобием Божьим, господин студиозус?»
Не понимая толком, смеется ли новый приятель или нет, Эйцен решил вернуться на более прочную почву, а потому повторил напутствие, данное ему в Гамбурге пастором Иоганнесом Эпиносом: не в знании сила, а в вере. После чего, чтобы избежать спора, который грозил обернуться для него поражением, Эйцен попросил спутника продолжить рассказ.
Тот поведал, что когда приемный отец, военный лекарь Фриз, был при смерти, то призвал его к себе и сказал: «Сын мой, а я всегда считал тебя своим сыном, хотя ты пришел в мой дом бедней, чем подкидыш, и едва живой от голода, поэтому моя добросердечная жена и я не без труда выкормили и выходили тебя, так вот, сын мой, я хотел бы передать тебе наследство от твоей настоящей матери и твоего настоящего отца; вот то, что было при матери, когда нашли покойницу, вещицы недорогие, но важна память – item, пожелтевший платочек с двумя темными пятнами крови (я сам в том убедился), это кровь с глазниц твоего отца; item, серебряная монета, на которой отчеканена голова римского императора, и, наконец, кусок пергамента с древними еврейскими письменами и примечанием, сделанным рукою твоего отца, которое говорит о том, что монету и пергамент он получил от одного очень старого еврея, побывавшего у него за несколько дней до бунта». Передав все это своему приемному сыну, старый лекарь тихо почил, он же, Лейхтентрагер, сложил три реликвии в кожаный мешочек, который носит с тех пор всегда с собой как своего рода талисман.
При упоминании еврея, навестившего отца нового приятеля, Эйцену сразу же пришли на ум Вечный жид и ночные шаги в соседней каморке, а также слова приятеля о том, что он ищет некоего еврея, ради которого приехал в Лейпциг, и хотя Эйцену стало жутковато, его подмывало любопытство, поэтому он сказал Лейхтентрагеру, что носит на груди освященный крестик, подаренный матушкой, и может показать его, если приятель покажет взамен свой амулет.
Лейхтентрагер, потянувшись со своего коня, хлопнул Эйцена по плечу, отчего тот вздрогнул, и сказал, что если ему интересно посмотреть на подобную чертовщину, то – пожалуйста; кстати, пора дать коням отдохнуть. Всадники остановились, пустили коней па травку, а сами уселись на два пенька; Лейхтентрагер, вытащив из-за пазухи, показал Эйцену сначала старинную монету, очень хорошо сохранившуюся, на ней можно было отчетливо разглядеть каждый листочек в лавровом венке императора, затем платочек с двумя бурыми пятнами и, наконец, кусок пергамента.