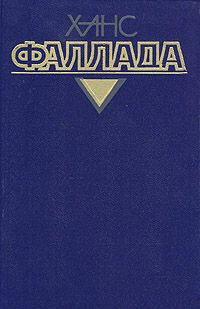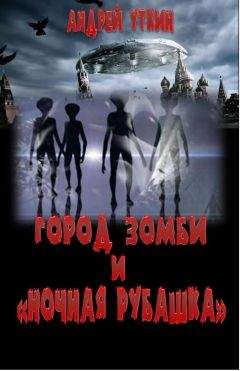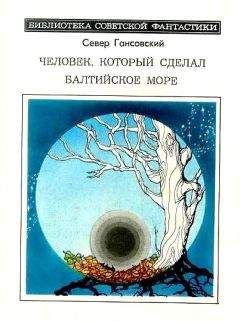— Ничего я не воображаю.
— Нет, воображаете. А почему воображаете? Потому, что ждете не неделю, а целый месяц, когда хозяин вам заплатит. Потому, что не требуете за сверхурочные, потому, что получаете ниже существующих ставок, потому, что никогда не бастуете, потому, что вы известные штрейкбрехеры…
— Дело ведь не только в деньгах, — возражает Пиннеберг. — У нас не те взгляды, что у большинства рабочих, у нас и потребности другие…
— Не те взгляды, не те взгляды, — ворчит Ступке, — те же взгляды, что и у пролетариев…
— Не думаю, — говорит Пиннеберг, — я, например…
— Вы, например, — презрительно ухмыляется Ступке, щуря глаза. — Вы, например, взяли аванс, так?
— Какой еще аванс? — недоумевает Пиннеберг.
— Ну да, аванс. — Ступке ухмыляется еще ехиднее. — Аванс у Эммы. Не очень-то это, милостивый государь, красиво. Самая что ни на есть пролетарская привычка.
— Я…— лепечет Пиннеберг и краснеет до корней волос, ему хочется хлопнуть дверью и заорать: «А ну вас всех к черту!»
Но фрау Ступке осаживает мужа:
— А теперь, отец, хватит зубы скалить! Это дело улажено. И тебя не касается.
— Вот и Карл пришел! — кричит Овечка, услышав, как хлопнула входная дверь.
— Ну, так подавай на стол, жена, — говорит Ступке. — А я все-таки прав, зятек, спросите вашего пастора, негоже это…
В кухню входит молодой человек, но эпитет «молодой» относится только к его возрасту, на вид он совсем не молодой, он еще более желтый, еще более желчный, чем старик отец. Буркнув «Добрый вечер» и не обращая на гостя ни малейшего внимания, он снимает пиджак, жилет, а потом и рубашку. Пиннеберг со все возрастающим удивлением следит за ним.
— Работал сверхурочно? — спрашивает отец. Карл Ступке что-то бурчит в ответ.
— Помоешься потом, Карл, — говорит фрау Ступке. — Садись за стол.
Но Карл уже отвернул кран и теперь усердно моется над раковиной. Он оголился до пояса, Пиннеберга это немного шокирует, из-за Овечки. Но она как будто не находит тут ничего особенного, ей, верно, кажется, что так и надо.
А Пиннебергу многое кажется не таким, как надо. Безобразные фаянсовые тарелки, почерневшие на выщербленных местах, полуостывшие, пахнущие луком картофельные оладьи, соленые огурцы, тепловатое пиво, предназначенное только для мужчин, и потом эта неприглядная кухня и моющийся Карл…
Карл усаживается за стол.
— Ишь ты, пиво…— угрюмо бурчит он.
— Это Эммин жених, — объясняет фрау Ступке. — Они хотят пожениться.
— Заполучила-таки женишка, — говорит Карл. — Да еще буржуя. Пролетарий для нее недостаточно хорош.
— Вот видишь, — с удовлетворением поддакивает старик,
— Ты бы сперва деньги в хозяйство внес, а потом бы уж и горло драл, — замечает мать.
— Что значит «вот видишь»? — не без ехидства говорит Карл отцу. — Настоящий буржуй, по мне, все же лучше, чем вы — социал-фашисты.
— Социал-фашисты! Ну ты, советский подголосок, еще вопрос, кто из нас фашист, — злится старик.
— Ну ясно, кто: вы, броненосные герои…
Пиннеберг слушает не без некоторого удовлетворения. Сын с лихвой воздал отцу за все, что тот высказал ему, Пиннебергу.
Только картофельные оладьи не стали от этого вкуснее. Не очень-то приятный обед; он, Пиннеберг, не так представлял себе свою помолвку.
НОЧНОЙ РАЗГОВОР О ЛЮБВИ И ДЕНЬГАХ.
Пиннеберг пропустил поезд, можно уехать и утром, с четырехчасовым. Все равно поспеешь вовремя на службу.
Они с Эммой сидят в темной кухне. В одной комнате спят старик, в другой фрау Ступке. Карл ушел на собрание КПГ.
Они сдвинули два табурета и сели спиной к остывшей плите. Дверь на небольшой кухонный балкончик открыта; ветер чуть колышет платок, которым занавешена балконная дверь. За окном раскинулось ночное небо, темное, с бледно мерцающими звездами, а под ним душный, наполненный звуками радио двор.
— Мне бы хотелось, чтобы у нас было уютно, — шепчет Пиннеберг и сжимает руку Овечки. — Знаешь, — он пробует пояснить, — чтобы в комнате было светло и на окнах белые занавески, и всегда ужасно чисто.
— Понимаю, — говорит Овечка. — Тебе у нас уж очень, должно быть, плохо, ведь ты к этому не привык.
— Нет, я это не потому.
— Нет, потому, потому. Почему бы тебе этого не сказать? У нас и вправду плохо. И то, что Карл с отцом вечно цапаются, плохо. И что отец с матерью вечно спорят, тоже плохо. И что они вечно норовят дать матери поменьше на стол, а мать норовит вытянуть из них побольше… все плохо.
— Но почему это так? У вас ведь трое зарабатывают, как будто должно хватать. Овечка не отвечает.
— Они мне как чужие, — говорит она, помолчав. — Я всегда была у них Золушкой, Когда отец и Карл приходят домой, они отдыхают. А я начинаю мыть, гладить, шить, штопать носки. Ах, да не в этом дело, — вырывается у нее, — я бы с радостью все делала. Но то, что все это как будто так и надо и что тебя же еще шпыняют и попрекают, что никогда слова доброго не услышишь и что Карл старается показать, будто он меня еще и содержит, потому что больше вносит в хозяйство… Я ведь немного зарабатываю — какой сейчас заработок у продавщицы?
— Скоро всему этому конец, — говорит Пиннеберг. — Теперь уже очень скоро.
— Ах, не в этом дело, совсем не в этом, — в отчаянии говорит она. — Знаешь, милый, они мной всегда помыкали. Я у них из дур не выхожу. Конечно, я не такая уж умная. Я многого не понимаю. А потом я некрасивая…
— Ты красивая!
— Я это от тебя первого слышу. Когда мы ходили на танцы, я всегда подпирала стенку. А когда мать говорила Карлу, чтоб он подсылал своих приятелей, он говорил: «Да кому охота танцевать с такой выдрой?» Правда, от тебя первого слышу…
В душу Пиннеберга закрадывается неприятное чувство: «Нет, она не должна была мне это говорить, — думает он. — Я всегда считал, что она красивая. А вдруг она совсем некрасивая…»
А Овечка продолжает:
— Понимаешь, милый, я совсем не собираюсь тебе плакаться. Вот только сейчас один-единственный разочек все выскажу, чтоб ты знал, что они мне чужие, только ты мне не чужой, ты один. И что я ужасно тебе благодарна, и не только за Малыша, но и за то, что взял за себя Золушку.
— Милая, — говорит он, — милая…
— Нет, не сейчас, погоди. Ты вот говоришь, у нас все должно быть светло и чисто, так тебе придется набраться терпения, я ведь даже готовить толком не умею. И если я что не так сделаю, ты мне скажи, я тебе никогда врать не буду…
— Да, Овечка, да, все будет хорошо.
— И мы никогда, никогда не будем ссориться. Господи, милый мой, как мы будем счастливы с тобой вдвоем. А потом и втроем, с Малышом.
— А вдруг будет девочка?
— Нет, будет мальчик, такой маленький, очаровательный Малыш.
Через Минуту они встают и выходят на балкон.
Да, там над крышами небо и звезды на нем. Некоторое время они стоят молча, положив руки друг другу на плечи.
Затем они возвращаются на бренную землю, на землю с двором-колодцем, с множеством светлых квадратов окон, с кваканьем джаза.
— Мы тоже купим радио? — вдруг спрашивает он,
— Ну, конечно. Знаешь, когда ты будешь на службе, мне будет не так одиноко. Но только не сразу. Нам еще столько всего нужно!
— Да, — говорит он. Молчание.
— Милый, — робко начинает она. — Я хочу тебя кое о чем спросить.
— Ну? — неуверенно откликается он.
— А ты не рассердишься?
— Нет.
— У тебя есть сбережения? Молчание.
— Очень немного, — нерешительно тянет он. — А у тебя?
— Тоже немного. — И быстро добавляет. — Совсем, совсем чуточку.
— Скажи, сколько, — говорит он.
— Нет, вперед ты скажи, — говорит она.
— У меня…— говорит он и замолкает.
— Ну, скажи! — просит она.
— Правда же, совсем немного, может быть, еще меньше, чем у тебя.
— Наверное, не меньше. Молчание. Длительное молчание.
— Ну спроси, сколько, — просит он.
— Ну, — она глубоко вздыхает. — Это больше, чем… Она задумывается.
— Чем сколько? — спрашивает он. Ей вдруг делается очень смешно:
— Да что там, чего мне стесняться. У меня на книжке сто тридцать марок.
Он важно, с расстановкой произносит
— У меня четыреста семьдесят.
— Замечательно! — говорит Овечка. — Как раз ровно. Шестьсот марок. Милый, да это же куча денег!
— Ну, я бы этого не сказал… Правда, холостяцкая жизнь обходится очень дорого.
— А у меня из жалованья в сто двадцать марок семьдесят уходят на еду и квартиру.
— Не скоро накопишь такую сумму, — говорит он.
— Очень нескоро, — соглашается она. — Ну никак больше не отложить. Молчание.
— Не думаю, что мы сейчас же подыщем квартиру в Духерове, — говорит он.
— Значит, надо снять меблированную комнату.
— И тогда можно будет еще сколько-нибудь отложить на собственную мебель.