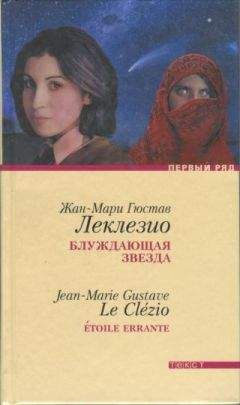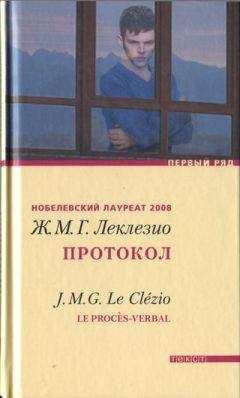Аамма Хурия без устали описывала гостьям чудо рождения. «Вы только подумайте, — говорила она, — перед самым восходом я отвела Румию в овраг, чтобы она оправилась, и Всевышний решил, что ребенок родится там, в этом овраге, словно хотел показать, что величайшее из чудес может случиться в худшем из мест, среди грязи и нечистот».
Рассказ Ааммы обрастал все новыми деталями и очень скоро превратился в изустную легенду. Женщины, придерживая рукой покрывало, заглядывали в комнату, чтобы хоть одним глазком взглянуть на чудо. Румия кормила ребенка, и сочиненная Ааммой Хурией легенда окружала ее особым светом: белоснежное платье, струящиеся по плечам светлые волосы, сосущий грудь младенец. Теперь что-то и впрямь должно было измениться.
Зимой лагерем овладели отчаяние, голод и запустение. Дети и старики умирали от лихорадки и болезней, потому что пили тухлую воду. Больше всего смертей было в нижней части лагеря, где селились вновь прибывшие. С вершины холма Саади видел людей, хоронивших мертвых. Завернутое в старую простыню тело клали в яму, наспех выкопанную на склоне холма, и заваливали большими камнями, чтобы его не обглодали бродячие собаки. Нам хотелось верить, что все это происходит где-то там, очень далеко, и благодаря Луле с нами ничего подобного не случится.
Наступили холода. Ночью ветер завывал над каменистой долиной, обжигал веки, леденил руки и ноги. Иногда шел дождь, и я слушала, как вода стекает по дощатым стенам и просмоленной картонной крыше. Наша жизнь стала просто ужасной, но я была счастлива, как если бы мы жили в большом доме, сухом и чистом, а дождь выстукивал свою мелодию по поверхности воды в бассейне. Аамма собрала все кастрюли, кувшины, пустые банки из-под сухого молока, что были в доме, и даже проржавевший капот машины, который детишки выловили из реки, чтобы набрать дождевой воды. Я сидела и слушала, как дождь барабанит по дну кувшинов и банок, и была счастлива: мне казалось, я снова дома, и струи воды стекают с крыши на мощенный плитами двор, поливая апельсиновые деревца в кадках, посаженные моим отцом. Но мне хотелось и плакать, потому что шум дождя нашептывал: ничего не вернешь, ты больше никогда не увидишь ни родной дом, ни отца, ни соседей — ничего.
Аамма Хурия подходила и садилась рядом, словно чувствовала мою печаль. Тихим, нежным голосом она рассказывала мне очередную волшебную историю о джинне, а я прислонялась к ней — легонько, ведь сил у нее почти совсем не осталось. Вечером, когда пошел дождь, Аамма пошутила:
— Ну вот, теперь и старое дерево может зазеленеть.
Но я знала, что дождь не вернет Аамме силы. Она была очень бледной, худой и все время кашляла.
Аамма стала нянчиться с малышкой, пела ей колыбельные, а Румия вела дом.
Ооновский грузовик давно не привозил в лагерь продовольствия. Дети собирали на холмах съедобные коренья, листья и ягоды мирта. Саади хорошо знал пустыню и умел ловить мелкую дичь — птичек и тушканчиков. Он их жарил и угощал нас. Никогда бы не подумала, что маленькие зверьки могут быть такими вкусными. Еще Саади приносил дикие ягоды и плоды земляничника, которые собирал за дальними холмами, клал их в чистой тряпице на плоский камень перед дверью, и мы жадно набрасывались на угощение и высасывали сладкий сок из ягод, а он заговорил спокойно и чуточку насмешливо:
— Осторожно, камни несъедобные!
Между Баддави и Румией происходило что-то странное. Прежде, когда он подходил к нашему дому, Румия отворачивалась. Теперь ее светлые глаза смотрели ему прямо в лицо из-под покрывала. По утрам, возвращаясь от колодца, я находила Саади сидящим на камне у нашей двери. Он ни с кем не говорил и держался отстраненно, словно бы ждал кого-то. Я больше не брала его за руку, не клала голову ему на плечо во время беседы. Саади говорил со мной все тем же мягким, певучим голосом, но я догадывалась, что нужна ему не я, а Румия. Он угадывал ее силуэт в тени комнаты, караулил, пока Аамма Хурия расчесывала частым гребнем ее длинные волосы, ждал, пока она накормит ребенка или приготовит еду из муки и масла. Иногда они беседовали. Закутанная в голубое покрывало, Румия садилась перед дверью, Саади оставался за порогом, и они говорили и смеялись.
Я вооружалась палкой, чтобы отгонять собак, уходила на холм и в одиночестве караулила машину с продовольствием. Солнечный свет слепил глаза, ветер поднимал пыль в долинах. Небо на горизонте было линялого серо-голубого цвета. Я воображала, что сижу в сумерках на пляже, на берегу моря, и жду возвращения рыбаков, чтобы первой увидеть лодку моего отца с красным парусом и зеленой звездой моего имени на форштевне.
Однажды утром в лагере, в сопровождении солдат, появился незнакомец. Я была на вершине холма, караулила грузовик с продовольствием, когда на дороге, ведущей от Бир-Зейта, возникло облако пыли, и я поняла, что это не конвой ООН. От страха у меня заколотилось сердце — я подумала, что это солдаты и они убьют.
Когда машины подъехали к лагерю, все попрятались, потому что очень испугались. Потом мужчины, а следом за ними и женщины с детьми вышли из своих лачуг. Я бегом спустилась с холма.
Грузовики и джипы остановились у ворот, и оттуда начали выходить солдаты, врачи и медицинские сестры. Некоторые фотографировали, другие беседовали с мужчинами, угощали детей конфетами.
Я подошла ближе, чтобы послушать. Мужчины в белом говорили по-английски, и я едва понимала слово или два. «Что они говорят?» — с тревогой вопрошала женщина, державшая на руках ребенка с худеньким личиком и стригущим лишаем на голове. «Это врачи, они будут нас лечить», — отвечала я, чтобы ее успокоить. Но она смотрела из-под покрывала и все повторяла и повторяла: «Что они говорят?»
Среди солдат стоял очень высокий, стройный иностранец в сером костюме. Он один из всех приехавших не надел каску. Его доброе лицо покраснело от солнца, слушая врачей, он слегка наклонял голову к плечу. Я подумала, что он главней всех, и решила как следует его рассмотреть. Мне хотелось подойти к нему, поговорить, рассказать о наших мучениях, о том, что каждую ночь в лагере умирают дети, а утром их хоронят у подножия холма, и о том, что плач женщин звучит повсюду и приходится затыкать уши и убегать на холм, чтобы его не слышать.
Когда приехавшие отправились под охраной солдат осматривать лагерь, у меня бешено заколотилось сердце. Я побежала к ним, забыв о своем рваном платье, нечесаных волосах и чумазом лице. Солдаты не сразу меня заметили — они смотрели по сторонам, боясь нападения. А вот высокий мужчина в светлой одежде заметил, остановился и взглянул на меня, словно бы о чем-то спрашивал. Я хорошо видела его загорелое лицо и серебристо-седые волосы. Солдаты остановили меня и удерживали за руки, причиняя боль. Я поняла, что не доберусь до их начальника, не смогу с ним поговорить, и выкрикнула единственную фразу, которую знала по-английски: «Good morning, sir! Good morning, sir!..» Я кричала во все горло, чтобы он все-таки понял, что я хотела ему сказать. Но солдаты отодвинули меня, и врачи и медсестры прошли мимо. Он, их главный, обернулся, улыбнулся мне и что-то сказал — я не поняла, что именно, но, думаю, он просто ответил «Good morning», и остальные тоже это сказали. Я видела, как его высокая фигура со склоненной набок головой шагает на другой конец лагеря. Я пошла назад с другими женщинами и детьми. Я ужасно устала от того, что попыталась сделать, и не чувствовала ни боли в руках, ни отчаяния от того, что у меня ничего не вышло.
Я вернулась в наш дом. Аамма Хурия лежала под одеялом. Я заметила, какая она бледная и изможденная. Аамма спросила, приехал ли наконец грузовик с продовольствием, и я, чтобы ее успокоить, ответила, что машина пришла и нам привезли хлеб, масло, молоко и вяленое мясо, словом — все, что нужно. Я рассказала о врачах, медсестрах и лекарствах, и Аамма ответила: «Это хорошо. Хорошо». Она осталась лежать на полу под одеялом, положив голову на камень.
Несмотря на визит врачей, в лагерь пришла болезнь. Эта смерть не подбиралась украдкой, не забирала по ночам жизни самых юных и самых дряхлых, не хватала ледяной рукой самых слабых, чтобы задуть огонек жизни. По улицам лагеря средь бела дня разгуливала чума, ежесекундно сея смерть и забирая жизни даже самых крепких мужчин.
Все началось с крыс — с дохлых крыс, валявшихся на улицах лагеря под палящим солнцем, словно кто-то выгнал их из нор в оврагах. Дети играли с дохлыми зверьками, а женщины поддевали палками и отбрасывали как можно дальше. Аамма Хурия говорила, что крыс нужно сжигать, но у нас не было ни бензина, ни дров, чтобы сложить костер.
Крысы лезли из всех щелей. По ночам они бегали по крышам домов, царапая коготками брезент и доски.
Крысы бежали от смерти. Когда я шла на заре за водой, земля вокруг колодцев была усеяна их трупиками. Даже бродячие собаки к ним не прикасались.
Первыми умерли дети, игравшие с дохлыми крысами. Слух об этом разошелся по всему лагерю, потому что их братья и друзья бегали по улицам с дикими воплями, выкрикивая пронзительными голосами ужасные, немыслимые, похожие на имена демонов слова, смысла которых сами не понимали: «Хабуба!.. Кахула!..» Крики детей в неподвижном полуденном воздухе напоминали зловещее воронье карканье. Я вышла на обжигающее солнце и прошла по улицам, не встретив ни единого человека. Все вокруг казалось уснувшим, но повсюду царила смерть. В дальней, северной части, там, где селились сбежавшие от войны богачи из Эль-Куда, Яффы и Хайфы, перед одним из домов собрались люди. Среди них стоял мужчина, одетый, как англичанин, — дантист из Хайфы, — но его костюм был грязным и порванным в нескольких местах. Именно он принимал в лагере иностранных врачей, я видела его с солдатами. Он посмотрел в мою сторону, когда я забежала вперед, желая привлечь внимание мужчины в светлом костюме.