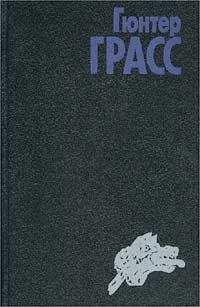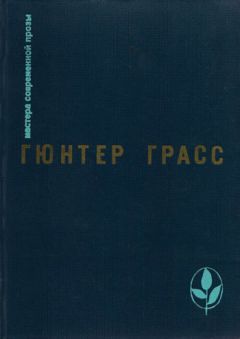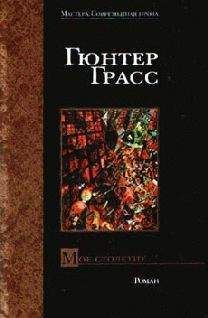В редкие дни, когда в лавке не было несортового мяса, кастрюлю заполняла требуха: обросшие узлами жира бычьи сердца, вонючие, потому что не вымоченные, свиные почки и маленькие бараньи, которые моей матери приходилось извлекать из плотной, в палец толщиной, оболочки сала с подкладкой из хрустящей пергаментной кожицы; это сало топили на чугунной сковородке, и потом оно шло в стряпню, на жарку, потому что сало с бараньих почек будто бы хорошо предохраняет от туберкулезной напасти. Иногда в кастрюле переваливался и кусок темной, с багровыми и фиолетовыми переливами селезенки или жилистый обрезок говяжьей печени. А вот легкое, на варку которого требовалось больше времени, больших размеров кастрюля, и уваривалось оно очень сильно, в эмалированную кастрюлю не попадало почти никогда, разве что несколько раз летом, когда с мясом бывало неважно из-за того, что в Кошубии и в Кошнадерии свирепствовал ящур. Вареную требуху мы никогда не ели. Только Тулла тайком от взрослых, но у нас на глазах – вытянув шеи, мы за ней подглядывали – жадными большими глотками пила коричнево-серый отвар, в котором плавали свернувшиеся хлопьями пенки от почек, образуя вместе с черноватым майораном причудливые пушистые островки.
На четвертый день в собачьей конуре Туллу, поскольку школа еще не началась, по совету соседей и врача, которого вызывали в нашу мастерскую при несчастных случаях, решено было оставить в покое; я, когда все еще спали – даже машинного мастера, который всегда приходил раньше всех, еще не было, – принес ей полную миску отвара из кастрюли с требухой: почками, сердцами, селезенкой и печенью. Отвар в миске был холодный, потому что Тулла любила пить отвар холодным. Затверделый слой жира – смесь говяжьего и бараньего сала – укрывал содержимое миски, как лед озеро. Только по краям проглядывало мутное варево, выплескиваясь на жирный панцирь аккуратными шариками. Еще в пижаме, я ступал осторожно, за шагом шаг. Ключ от калитки я снял со щитка тихо-тихо, чтобы другие ключи не звякнули. Почему-то рано утром и поздно вечером все лестницы скрипят. На плоской крыше дровяного сарая воробьи уже начали. В конуре никаких признаков. Но уже пестрые мухи на рубероиде в косой полосе утреннего солнца. Я отважился дойти до изрытого лапами полукруга, граница которого заметной канавкой и подобием насыпи обозначала пределы досягаемости собачьей цепи. В конуре покой, тьма и никаких мух. Потом, наконец, во тьме какое-то движение: волосы Туллы, все в опилках. Голова Харраса лежала на лапах. Губы сомкнуты. Уши почти не подрагивают, но только почти. Несколько раз я позвал, но голос мой, видно со сна, был почти не слышен, я сглотнул и позвал громче:
– Тулла! – И назвал на всякий случай себя. – Это Харри, посмотри, что я тебе принес.
Я всячески старался привлечь внимание к миске с отваром, пробовал причмокивать, потом тихо свистел и цокал, будто я не Туллу, а Харраса хочу выманить из конуры.
Когда никто, кроме пестрых мух, щебечущих воробьев и низкого солнца, ни малейшего движения не обнаружил и даже ухом не повел – Харрас, впрочем, повел и даже один раз сладко зевнул, но глаз упорно не открывал, – я поставил миску на край полукруга, точнее сказать, утвердил миску прямо в канавку, вырытую передними лапами собаки, и, не оглядываясь, пошел обратно в дом, оставляя за спиной воробьев, пестрых мух, выползающее солнце и конуру.
Тут как раз и машинный мастер просунул свой велосипед в калитку. Он спросил, но я не ответил. Наши окна были еще все занавешены. Сон у отца был спокойный и доверчивый – он доверял будильнику. Я пододвинул к кухонному окну табуретку, прихватил горбушку черствого хлеба, горшочек со сливовым муссом, раздвинул туда-сюда занавески, обмакнул горбушку в мусс, уже впился и начал откусывать – тут из конуры выползла Тулла. Даже за порогом конуры она осталась на четвереньках, неуклюже встряхнулась, сбрасывая с себя опилки, поползла, спотыкаясь и тыркаясь, к границе собачьего полукруга, наткнулась, не доходя до двери сарая, на канавку и насыпь, как-то боком, от бедра, повернулась, еще раз стряхнула с себя опилки – теперь на ее бело-голубом байковом платьице даже можно было угадать узор в клеточку, – зевнула в сторону двора, там стоял в тени, только по краешку шляпы задетый косым утренним солнцем, машинный мастер подле своего велосипеда, скручивал сигарету и смотрел в сторону конуры, в то время как я, с горбушкой и при муссе, сверху смотрел на Туллу, конуру опуская, только с Туллы не сводя глаз, с нее и ее спины. Тулла меж тем вяло и сонно, свесив голову и космы, поползла вдоль канавки и остановилась, все еще не поднимая головы, на уровне коричневой глазурованной фаянсовой миски, содержимое которой покрывал аккуратный, целенький кружок жира.
Все то время, что я наверху замер, не жуя, все то время, что мастер, чья шляпа все больше и больше выползала из тени на свет, обеими руками пытался закурить свою кульком свернутую цыгарку – три раза у него отказала зажигалка, – Тулла стояла, уткнувшись лицом в песок, потом медленно и опять как-то от бедра повернулась, не поднимая головы со спутавшимися, в опилках, волосами. Когда ее лицо оказалось над кружком жира, кружок этот, будь он зеркальцем и отразись в нем это лицо, обмер бы от ужаса. Да и я, сидя наверху, все еще не решался жевать. Едва заметно Тулла переместила вес своего тела с обеих рук на одну левую, покуда левая ее кисть, опирающаяся на землю, совсем не исчезла из моего поля зрения, скрывшись за ее туловищем. И в тот же миг, откуда ни возьмись, ее правая рука уже потянулась к миске – только тогда я снова окунул свою горбушку в сливовый мусс.
Машинный мастер размеренно курил, прислюнив цыгарку к нижней губе и пуская дым вверх, где его выхватывало из тени лучами низкого солнца. Туллина напрягшаяся левая лопатка выпирала под бело-голубой клетчатой байкой. Харрас, не поднимая головы с передних лап, медленно приоткрыл сперва правый, потом левый глаз и посмотрел на Туллу; она выставила правый мизинец – он медленно, одно за другим, прикрыл оба века. Теперь, когда солнце тронуло оба его уха, в темном нутре конуры были видны промельки вспыхивающих и исчезающих мух.
Покуда солнце взбиралось по небу, а где-то по соседству горланил петух – кур в округе держали, – Тулла приставила правый мизинец точнехонько к середке жирного круга и с неспешной осторожностью принялась буравить в нем дырку. Я отложил горбушку. Машинный мастер сменил опорную ногу, снова упрятав лицо в тень. Это я хотел видеть – как Туллин мизинец пробуравит застывшую корку и провалится в отвар, отчего корка сразу пойдет трещинами; но я не увидел, как Туллин мизинец проваливается в отвар, и кружок жира не пошел прихотливыми трещинами, а в целости и сохранности, желтоватым кругляшом, прилепился к Туллиному мизинцу и так извлекся из миски. Она высоко подняла этот целехонький, с крышку пивного бочонка величиной, диск, замахнулась от плеча, тряхнув в семичасовом утреннем небе волосами и опилками, присовокупив к замаху жутковатый прищур сморщенного недетского лица, и запустила его во двор, в направлении машинного мастера: там, в песке, он разлетелся на куски сразу и безвозвратно, распался в пыли ломтями, а некоторые осколки, превратившись в жирные песочные шарики, вырастая по пути, точно маленькие снежные комья, докатились до самых ног молча дымящего машинного мастера и до колес его велосипеда с новым велосипедным звонком.
Когда мой взгляд от разбитого кружка жира возвращается обратно к Тулле, она, костлявая и прямая, но по-прежнему как ледышка, стоит на коленях в лучах солнца. Все пять пальцев левой затекшей руки она сжимает и разжимает во всех их трех суставах. На раскрытой правой ладони она держит донышко миски и медленно подносит край миски ко рту. Она не пригубливает, не пробует, не рассусоливает. Не отрываясь, в один присест Тулла пьет отвар из сердца, селезенки, почек, печени со всеми его косматыми пенками и прочими маленькими радостями, с крошечными хрящиками с самого дна, с кошнадерским майораном и свернувшимися сгустками почечной крови. Тулла пьет до дна: подбородок толкает вверх миску. Миска тянет за собой руку, прилепившуюся ко дну, втаскивая ее в косые лучи солнца. Открывается и все больше вытягивается запрокинутая шея. Голова с копной волос и опилками в волосах плавно ложится на загривок и замирает. Близко посаженные глаза остаются закрытыми. Туллин бледный, тощий, хрящеватый детский кадык работает до тех пор, пока миска не ложится на ее лицо, а рука, отпустив донышко, не перестает затенять миску от солнца. Перевернутая миска закрывает собой прищуренные глаза, отороченные коростой ноздри, наконец-то утоленный рот.
По-моему, я был счастлив тогда, сидя в пижаме у нашего кухонного окна. От сливового мусса зубы у меня заиндевели. В спальне родителей настырный будильник приканчивал отцовский сон. Внизу машинному мастеру пришлось прикурить еще раз. Харрас приподнял веки. Тулла позволила миске скатиться с лица. Миска упала на песок. Она не разбилась. Тулла медленно опустилась на обе руки. Несколько крупных опилок, выплюнутых сварливой фрезой, лежали перед ней желтыми крошками. Как и прежде, от бедра, она повернулась примерно на девяносто градусов и вползла – грузно, тягуче, сыто – в косую солнечную полосу, дотащила солнце на спине до конуры, на пятачке перед лазом в конуру развернулась и задним ходом, свесив голову и волосы, вместе с плоским, золотящим волосы и опилки солнцем, протиснулась внутрь.