Кагане стал верующим, отпустил бороду и выступал в парижских синагогах с речами о том, что Освобождение близко. Он верил, что пришло время, когда все угнетенные народы должны сбросить со своих могил тяжелые надгробия и восстать из мертвых.
Он шатался по парижским улицам и продолжал ткать нить пророческого откровения, начатую его братьями-пророками на горе Мория и не прервавшуюся до сих пор. Даже когда языческий Рим положил конец греческой и еврейской духовной жизни, из их руин выросла новая жизнь, проявившаяся через еврея. И теперь, когда христианский Рим агонизирует, а новая жизнь уже стучится в окна, пробуждает человека к деяниям, рассказывает, что Избавление близко, что оно в руках самого человека, — даже теперь эта новая жизнь проявляется через еврея.
Кагане боготворил Гесса, смотрел на Сибиллу как на Марию Магдалину, черпал у Гесса Божье слово, распространял его в синагогах, где на него смотрели словно на помешанного, и среди польских студентов, где его не слушали. Но он не уставал сеять на каменистой почве, пока не свершилось чудо: меж камней там и сям выглянули упрямые ростки, стали расти, ветвиться и укореняться в сухом камне, подобно Божественному слову.
Кагане знал, что его работа не пропадет даром, что ее продолжат без него другие, и спокойно уехал обратно в Польшу, думая, что не сегодня-завтра польский народ освободится сам и приблизит Избавление евреев.
* * *
Когда Кагане с Мордхе подходили к винной лавке, они издали увидели, что Комаровский с Еленским уже сидят в санях. Еленский быстро выскочил из саней и пошел им навстречу.
— Знакомьтесь, — подал ему руку Кагане и повернулся к Мордхе: — Князь Еленский…
— Ступайте ко всем чертям! — возмущенно прервал его Еленский и взглядом извинился перед Мордхе: — Какой я князь? Меня зовут Ержи, Ержи Еленский; по дедушке меня звали Ерухам.
Последнее слово он произнес с особым ударением и посмотрел на Мордхе с такой болезненной гордостью, точно говорил не о еврейском имени, а о стариннейшем польском роде.
Он указал Мордхе место, сам тоже вскочил в сани и крикнул кучеру:
— Езжай!
Еленский укрыл всем ноги пушистой меховой полостью и сам уселся поудобнее. Он не умолкал ни на минуту. Говорил быстро, отчетливо, сжимая тонкие пальцы правой руки с блестящими, прозрачными ногтями. Эти ногти придавали его словам особую остроту.
— Стыдно ведь быть князем! При королевском дворе промышляли гербом, как мои деды водкой! А у Станислава-Августа каждый хам за пятьсот-шестьсот дукатов мог сделаться князем!
Мордхе всматривался в Еленского и видел перед собой явно еврейский тип лица. Удлиненные глаза искрились, как черное пиво, пронизывали; однако в них не было той неуверенности, того страха, которые привычно читаешь в еврейских глазах.
— Что вы скажете? — отозвался Кагане. — Как вся пресса восприняла речь Ястрова?
— Два брата из одной земли? — рассмеялся Еленский. — Что мы за братья? Может быть, ты с князем Комаровским или с Мерославским? А я нет! Я — еврей! Я уж не говорю о том, что в тридцатые годы Моравскому казалось, что не подобает шляхте сражаться вместе с жидами. Даже «великий» Лелевель был против этого. И вдруг — братья? Да чего там говорить. Вот мой старик — другое дело! Правоверный католик, беспрестанно молится, водится с попами, угрожает, что, если я не стану религиознее и не прекращу допекать его дедушкой Ерухамом — всегда при гостях, разумеется, ха-ха-ха, — он лишит меня наследства. Видели ли вы правовернее католика? У этого старика есть слабость: он гонит из дому бедных шляхтичей, которые сватаются к моей сестре, ищет для нее князя, и только из старинных польских князей, а они, князья, никак ему простить не хотят, что дедушка Ерухам получил от епископа Дембовского сто розог!
— Розог? — переспросил Мордхе, пораженный.
— Да, пане, розог! Это было… Сейчас… Это было зимою тысяча семьсот пятидесятого года. Благочестивый епископ издал приказ, чтобы все евреи в двадцать четыре часа оставили Каменец-Подольск и чтобы ни один поляк не посмел купить дом еврея. Мой прадедушка уговаривал евреев поджечь дома, не оставлять их монастырям. Он первый поджег свой дом, и от еврейского квартала не осталось даже следа. За то его растянули на снегу, пороли, и благочестивый Дембовский заставил мою прабабушку считать удары, которые получал ее муж…
Еленский переводил взгляд с одного на другого, желая понять впечатление, которое произвели его слова.
Каждый раз, когда Комаровский слышал речи Еленского, он смущался, будто был виноват во всем; виноват в том, что его дедушка и его отец пороли крестьян, пороли евреев и, хвастая этим, развлекали гостей. Он смотрел на трех евреев, которые были ему совершенно чужды. Насмешливое отношение к еврею, внушенное ему с самого детства, исчезло, и он в каждом еврейском лице видел нечто трагическое, печать Каина. Вырос же он с Ержи вместе, они вместе учились, мечтали, строили планы, но каждый раз, когда он приходил к нему в гости, там его все пугало: отец Ержи с озабоченным лицом, тяжелые картины из священной истории, приглушенные голоса. Ему казалось, что он попадает в другой, чуждый мир.
Еленский тем временем закончил:
— Епископ боялся, чтобы последующие поколения не забыли его великой преданности церкви, и сам описал, как он изгнал «неверующих», не щадя ни детей, ни стариков, как гнал их по пояс в снегу. «Паршивого Ерухама, — пишет он, — следовало бы сжечь, а не отпустить с сотней розог». В заключение епископ выражает надежду, что его книжку можно будет найти во всяком католическом доме.
— Это та самая книжка, которую твой отец покупает, как только увидит? — спросил Кагане.
— Да, он платит хорошие деньги, не желая, чтобы узнали о его происхождении, — усмехнулся Еленский в свои густые черные усы. — Теперь эту книжку уже нельзя и достать. Но я боюсь, что старик меня больше на порог не пустит! Знаете, что я собираюсь сделать? Я дам эту книжку перепечатать, прибавлю к ней родословную Ерухама до Петра Еленского и разошлю всем нашим соседям, ха-ха-ха! Что вы на это скажете?
Он не ждал ответа, схватил Комаровского за руку и продолжал:
— Ваше единение — бессмыслица! Если вы не хотели терпеть в своей среде, ты и твои деды, несколько сотен крещеных евреев, которые еще и теперь для вас бельмо на глазу, как вы можете мечтать об ассимиляции евреев в Польше? От ваших льняных волос и следа не останется.
Лошади неслись по снегу, вздымали холодную, колючую пыль, хлестали длинными хвостами по блестящим бокам, закидывали головы с раздувающимися ноздрями и ржали.
Еленский говорил не переставая, и над дорогой то и дело разносился веселый смех.
Мордхе радовался словам Еленского, с живым интересом смотрел на гордого князя, искал связи между ним и теми евреями, которые раболепствуют перед поляками и от имени которых он говорит. Он видел перед собою Молхо, прибывающего верхом в Регенсбург, чтобы быть принятым при дворе императора. Он уверен, что убедит монарха поддержать его. А Мордхе всегда было трудно понять, почему свой первый визит Молхо нанес Йосельману, придворному еврею, с которым он никогда не мог договориться. Реб Йосельман, забитый немецкий еврей с позорной желтой заплатой на одежде, который кланяется каждому христианину, и Молхо — гордый рыцарь, воспитанный при королевском дворе! Сейчас, глядя на Еленского, Мордхе стало понятно, почему Шломо Молхо дружил с Йосельманом, придворным евреем.
— Да, с тобой нельзя ведь и разговаривать! — Комаровский несколько раз прервал Еленского.
— Ну, каких доказательств тебе еще надо? — Глаза Еленского разгорелись. — Я прочел анонимную книжку, где описывается, как крестили моего отца! И каждый раз, когда я ее открываю, мне приходит в голову, что поляк тоскует больше о расовом господстве, чем о польском государстве!
— Неправда, неправда! — поморщился Кагане.
— Автор книжки, — Еленский говорил быстро, не замечая гримас Кагане, — жалуется, что нельзя пройти по варшавским улицам, чтобы не встретить неофита. Неофиты не занимаются никакой работой, каждый из них содержит больше двадцати винных лавок, живут они обособленно, никогда не роднятся с истинными католиками, оставаясь теми же евреями. Видел?! Как тебе это нравится?
— Любопытно, очень любопытно! — Кагане похрустел пальцами. — Можно взять у тебя книжку?
— Конечно, я даже узнал, кто ее автор. Один священник. Хогортовский зовут его. Вы только дальше послушайте. Ему встретилось тридцать неофитов и ни одного истинного католика. Пища, мол, у них такая же, как у евреев: фаршированная рыба, белая хала… У них та же, что у евреев, жестикуляция, пугливые и хитрые глаза… Даже то, что они слишком часто крестились, говорило, — это Хогортовский пишет, — что я сижу среди евреев, что они смотрят на меня косо, бросают еврейские слова, которых я не понимаю, как будто боятся меня, как чужого, который вдруг попал к ним во время их трапезы.
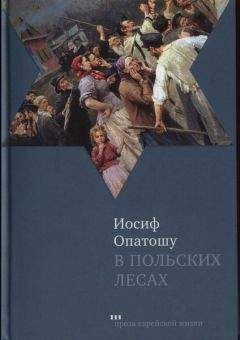


![Владимир Царицын - Зов Орианы. Книга первая. В паутине Экора. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/101705/101705.jpg)

