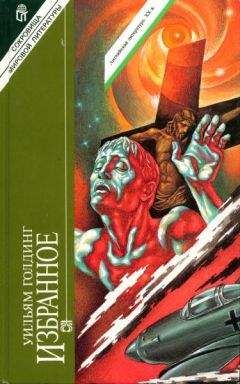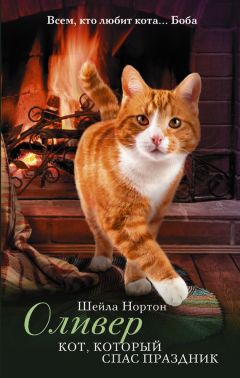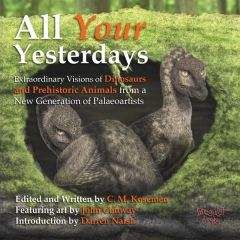– Eh bien, mes amis, au revoir![24]
Итак, оба они – и мисс Мэннинг, и мистер Кэрью – покинули нашу школу, и среди лиц преподавательского состава водворилась прежняя серость и тусклость. Случалось, дня два-три кряду жизнь делалась для мисс Прингл не под силу: в изнеможении она откидывалась на спинку стула и, глухо вздыхая, перекатывала голову из стороны в сторону. Я рискнул было всерьез принять на веру ее отсутствующий вид, но она обдала меня яростью, будто струей пламени из паяльной лампы. Ник обошелся со мной иначе – предал меня, в первый и единственный раз. Однажды я набрался храбрости и срывающимся голосом задал ему вопрос о сексе. Не столько о сексе, сколько о том, что за этим словом для меня скрывалось – мои фантазии, мисс Мэннинг, Беатрис, желание быть девочкой, страх, не гублю ли я себя…
Ник резко оборвал меня на полуслове. По лицу у него пошли пятна, но он взял себя в руки и заговорил, сосредоточенно глядя на клокотавшую в колбе жидкость:
– Я верю только тому, что могу видеть, потрогать, измерить и взвесить. Но если человека придумал дьявол – нельзя было подстроить нам более гнусной, более подлой и отвратительной ловушки!
Вот так-то… «Да будь они женаты – хуже быть не могло!» Мне, правда, удалось вызвать у приятелей бурю восторга, внеся в слова Бенджи поправку: дескать, ему следовало бы сказать «лучше быть не могло!». Но отныне мне открылся смысл, влагаемый в понятие «падший ангел». В моем слишком впечатлительном воображении секс облачился в вызывающе роскошные, зловещие одеяния. Я угодил в ослепительно сверкающую сеть и безнадежно застрял в ней – так нет пути назад, на свободу, нарядным бабочкам, когда они при спаривании быстро-быстро бьются друг о дружку гибкими тельцами, извергая розовую, с запахом мускуса, жидкость. Мускус, пьянящий и стыдный, будь моим благом! Мускус, пади на Беатрис: ни о чем таком она и не подозревает, не ведает ни о чем в безмятежном спокойствии, ей еще куда как далеко до брачной ночи, если только вообще суждено замужество, – и супругом ее буду не я, а другой… Мускус и должен стать моим благом: как же иначе, если человек всего-навсего животное, – чем еще измерять достоинства самца? Верх берет тот, кто заполучит себе в обладание побольше самок, у кого под началом целое стадо. Вы внушаете нам, будто мы животные высшего порядка? Так не рассчитывайте на ревностную привязанность к младшим, на инстинктивное чувство общности – слышите, как горячо и воинственно перебирает копытами жеребец-производитель? А что до сияния вокруг чела, посулов нескончаемо лучезарного райского утра – это просто-напросто иллюзия, побочный эффект. Не обращайте внимания… Постарайтесь выкинуть из головы.
Итак, я вступил в мир настоящих парней – в мир Меркуцио, Клавдио и Валентина, – и за это падение мне пришлось подыскивать себе провинность, соразмерную с наказанием. Чем грешным слыть, уж лучше грешным быть. Если те самые грехи мне пока не очень-то по зубам, остается только взять да и приписать их себе. Вина часто предшествует преступлению – и даже способна послужить для него толчком. Мои притязания на порочность были вполне байроническими – Беатрис сюда никак не вписывалась.
Подошло время выпуска. Беатрис предстояло отправиться в педагогический колледж на юге Лондона – готовиться в учительницы. Я поступал в художественное училище. Успех не был для меня осознанной целью. Долбя партийные лозунги, я вместе со своими единомышленниками поддавался химере безграничной свободы – противоположной свободе монаха-отшельника. На прощание каждый выслушал свою порцию напутственных слов. Ник изрек фразу, до странности близкую по складу церковной проповеди: «К какому бы начинанию ни приложил ты руку свою – не щади сил своих до последнего».
Директор продержал меня дольше, но сказал едва ли не то же самое.
– Готов в путь-дорогу, Сэм?
– Да, сэр.
– Пришел за мудрым советом?
– Я уже со всеми попрощался, сэр.
– Совет – штука опасная; а вдруг ты его запомнишь?
– Как это, сэр?
– Присядь-ка лучше на минуточку да посиди спокойно. Вот так. Сигарету хочешь?
– Но я…
– Брось, брось: что я, пальцев твоих не вижу? Пепел можешь стряхивать вот сюда, в корзину.
Нежданный, необъяснимый порыв:
– Хочу поблагодарить вас за все, что вы для меня сделали, сэр.
Директор отмахнулся от моих слов, держа в руке зажженную сигарету.
– Да, вот что я собирался тебе сказать… От Поганого проулка ты уйдешь далеко вперед – очень далеко.
– Отец Штопачем немало помог мне, сэр.
– Отчасти и он.
Директор вдруг резко повернулся ко мне, не вставая с кресла:
– Сэм! Мне нужна твоя помощь. Мне… мне хочется понять, чего ты ищешь. Ну да-да, о твоем членстве в партии я уже наслышан: эти дела, пожалуй, будут занимать тебя годик-другой, не дольше. Но что касается тебя самого – ведь ты же художник, прирожденный художник, один Бог ведает, с какой стати и почему. Такой несомненной одаренности я еще ни в ком не встречал. Вот твои портреты… ты считаешь их важными для себя?
– Наверно, сэр.
– Но послушай – что для тебя самое важное? Не спеши с ответом! Забудем пока о партии. Тут все ясно и так, Сэмми, – поверь, я смотрю на вещи спокойно. Но речь идет о тебе самом – чем-то в жизни ты ведь дорожишь?
– Не знаю.
– У тебя талант – и ты ни разу не задумался, насколько ты им дорожишь? Послушай, Сэмми: нам больше незачем притворяться, так ведь? Твои редчайшие способности делают тебя белой вороной. Ты так же непохож на остальных, как если бы тебя угораздило явиться на свет шестипалым. Мы с тобой прекрасно это понимаем. Я вовсе не расположен тебе льстить. Ты далек от порядочности, ты эгоист и так далее – все перечислять незачем… Верно я говорю?
– Сэр…
– Значит, талантом своим ты не дорожишь?
– Нет, сэр.
– И ты не очень-то счастлив.
– Не очень, сэр.
– И уже довольно давно, так?
– Да, сэр.
– Счастье – не твой удел, запомни мои слова. Оставь счастье другим, Сэмми. Поиски счастья – это всего лишь упражнение для пальцев, вроде гаммы. – Он пошевелил пальцами правой руки в воздухе. – Значит, сами по себе портреты для тебя – это так, пустяки. Быть может, они служат средством для достижения цели? Угадал? Только обойдемся без диктатуры пролетариата. Если есть цель – то какая?
– Не знаю, сэр.
– Ты надеешься прославиться, разбогатеть?
Я ответил не сразу:
– Да, сэр. Это было бы совсем неплохо.
Директор коротко рассмеялся:
– Все равно что сказать: плевать я на все хотел… И я еще должен давать тебе советы… Нет уж, лучше воздержусь. До свидания, Сэмми.
Директор забрал у меня окурок и пожал руку. Я уже было шагнул за дверь, но в нем взыграла вдруг неискоренимая педагогическая жалка – и он вернул меня с порога:
– Сэмми, может, тебе и пригодится то, что я тебе скажу. Убежден, вывод мой основан на истине, ему трудно противиться, и потому он опасен. Пожелай чего-то достаточно сильно – и непременно своего добьешься, если только готов будешь принести соразмерную жертву. Какую угодно, что бы то ни было… Но запомни: достигнутое никогда не оправдывает ожидания – рано ли, поздно ли, а придется сожалеть о жертве.
Из кабинета директора я направился к выходу, сошел с крыльца школы – и окунулся в цветение лета. В моей жизни одна опека сменялась другой, и не более того, но мною владело чувство, будто передо мной открыты все дороги. Возвращаться в пасторский дом не хотелось; я шел и шел вперед, пока не выбрался за город. Между высоким обрывом и рекой вклинивался лес, прилегавший к дюнам. Взволнованный, я торопливо продирался сквозь заросли папоротника, словно там меня поджидала заветная разгадка.
Дикие голуби вторили песенке, звучавшей у меня в голове. «Знали б вы Сьюзи… Знали б вы Сьюзи…» – затаясь в зелени, высвистывали они снова и снова мотив, от которого ногам хотелось пуститься в пляс. Густой лес, переполненный нестройным гудением безвестных мошек и козявок, прыжками кроликов, порханием многоцветных бабочек с расписными крыльями, вливался в уши сладострастным хором: мускус – высшее благо множеств и множеств… Плотная, темно-лазоревая голубизна неба заполняла просветы меж верхушек деревьев кусками толстого стекла – казалось, ничего не стоит дотянуться до них рукой. Упругие побеги орляка преграждали мне путь, щекоча горло. Мириады живых существ отрясали пыльцу, испускали точащую острый аромат жидкость, наполняя им воздух вокруг меня до осязаемой вязкости. И здесь, у могучих опор лесного храма – громадных стволов, под стать колоннам кафедральных соборов, среди наметенной в кучи сухой листвы и хрустящего под подошвой валежника, я выдохнул в пышущий зноем воздух ответ. Ответ на вопрос, что для меня важнее всего: важнее всего девственно-белое, еще не виденное мной тело Беатрис Айфор, ее послушная готовность; важнее всего остаться на веки вечные ее покровителем, важнее всего – за причиненные ею мне муки – ее совершеннейшая безропотность до конца, до смертного часа.