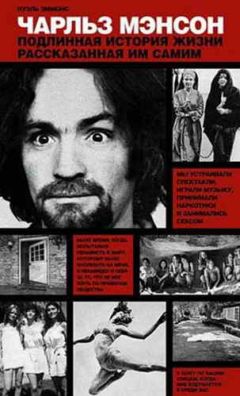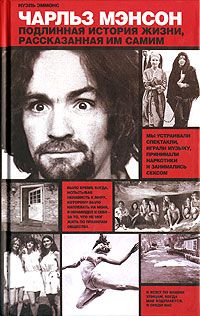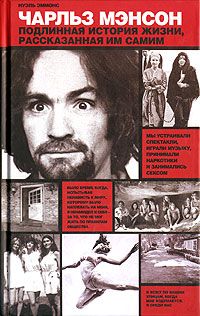— Крис! Я, право, верю теперь, что сделаю что-нибудь в жизни!
Он начал старательно заносить на картотеку, специально для этой цели приобретенную, результаты своих исследований. Он и сам не сознавал, какой блестящей клинической техники достиг за это время. В комнате, где рабочие переодевались, выйдя из шахты, они стояли перед ним, оголенные по пояс, а он при помощи пальцев и стетоскопа чудесным образом проникал в тайны патологических изменении этих живых легких: здесь — участок фиброза, у следующего — эмфизема, у третьего — хронический бронхит, который сам он снисходительно именует «пустяковым кашлем». Эндрью аккуратно отмечал все недуги в диаграммах, напечатанных на обороте каждой карточки.
Одновременно с этим он брал у каждого больного мокроту на исследование и, сидя до двух-трех часов ночи над микроскопом Денни, заносил полученные данные на карточки. Оказалось, что в большинстве случаев эта гнойная слизь, которую больные называли здесь «белыми плевками», содержала блестящие острые частички кремнезема. Эндрью поражало количество альвеолярных клеток в легких и частое нахождение в них туберкулезных бацилл. Но более всего приковывало его внимание присутствие почти всегда и повсюду кристаллов кремния. Неизбежно напрашивался потрясающий вывод, что изменения в легких, а возможно даже и сопутствующая им инфекция, происходят от этой именно причины.
Таковы были успехи Эндрью к тому дню в конце июня, когда Кристин воротилась и бросилась к нему на шею.
— Как хорошо опять очутиться дома!.. Да, я хорошо провела время, но... право, не знаю... и ты так побледнел, милый! Наверное, Дженни тут морила тебя голодом!
Отдых принес ей пользу, она чувствовала себя хорошо, и на щеках ее цвел нежный румянец. Но ее тревожил Эндрью: у него не было аппетита, он каждую минуту лез в карман за папиросами.
Она спросила серьезно:
— Сколько времени будет продолжаться эта твоя исследовательская работа?
— Не знаю. — Это было на следующий день после ее приезда; шел дождь, и Эндрью был в неожиданно дурном настроении. — Может быть, год, а может быть, и пять.
— Так слушай, Эндрью. Я вовсе не собираюсь читать тебе проповедь, — хватит и одного проповедника в семье, — но не находишь ли ты, что раз эта работа так затягивается, тебе следует работать планомерно, вести правильный образ жизни, не засиживаться по ночам и не изводить себя?
— Ничего со мной не будет.
Но в некоторых случаях Кристин бывала удивительно настойчива. Она велела Дженни вымыть пол в «лаборатории», поставила туда кресло, разостлала коврик перед камином. В жаркие ночи здесь было прохладно, от сосновых половиц в комнате стоял приятный смолистый запах, к нему примешивался запах эфира, который Эндрью употреблял при работе. Здесь Кристин сидела с шитьем или вязаньем, пока Эндрью работал за столом. Согнувшись над микроскопом, он совершенно забывал о ней, но она была тут и поднималась с места ровно в одиннадцать часов.
— Пора ложиться.
— Ох, уже! — восклицал он, близоруко щурясь на нее из-за окуляра. — Ты ступай наверх, Крис. Я приду через минуту.
— Эндрью Мэнсон, если ты полагаешь, что я пойду наверх одна... в моем положении...
Последняя фраза превратилась у них в излюбленную поговорку. Оба шутя употребляли ее при всяком удобном случае, разрешая ею все споры. Эндрью не в силах был противостоять ей. Он вставал смеясь, потягивался, убирал стекла и препараты.
В конце июля сильная вспышка ветряной оспы в Эберло прибавила ему работы, и третьего августа у него оказался особенно длинный список больных, которых нужно было навестить, так что он начал обход сразу после утреннего амбулаторного приема, а в четвертом часу дня, когда он поднимался по дороге к «Вейл Вью», утомленный, торопясь поесть и выпить чаю, так как сегодня пропустил завтрак, он увидел у ворот своего дома автомобиль доктора Луэллина.
Присутствие здесь этого неподвижного предмета заставило его внезапно вздрогнуть и поспешить к дому. Сердце его сильно забилось от мелькнувшего подозрения. Он взбежал по ступеням крыльца, рванул входную дверь и в передней наткнулся на Луэллина. С нервной стремительностью посмотрев ему в лицо, он проговорил, заикаясь:
— Алло, Луэллин. Я... я не ожидал увидеть вас здесь так скоро.
— Да, и я тоже, — ответил Луэллин.
Эндрью улыбнулся.
— Так почему же?..
От волнения он не мог найти других слов, по вопросительное выражение его веселого лица говорило достаточно ясно.
Но Луэллин не улыбнулся в ответ. После очень короткого молчания он сказал:
— Войдемте сюда на минутку, мой дорогой. — Он потянул Эндрью за собой в гостиную. — Мы все утро пытались вас разыскать.
Поведение Луэллина, его нерешительный вид, непонятное сочувствие в голосе пронизали Эндрью холодом. Он пролепетал:
— Что-нибудь случилось?
Луэллин посмотрел в окно, на мост, словно ища самых осторожных, добрых слов для объяснения. Эндрью не мог больше выдержать. Он едва дышал, ему давила сердце жуткая неизвестность.
— Мэнсон, — начал Луэллин мягко, — сегодня утром... когда ваша жена проходила по мосту, одна гнилая доска сломалась. С ней все благополучно, вполне благополучно. Но, к сожалению...
Эндрью понял все раньше, чем Луэллин кончил. Острая боль резнула его по сердцу.
— Вам, может быть, будет приятно знать, — продолжал Луэллин тоном спокойного сострадания, — что мы сделали все необходимое. Я сразу же приехал, привез сестру из больницы, и мы пробыли здесь весь день...
Наступило молчание. Эндрью всхлипнул раз, потом другой, третий. Закрыл лицо рукой.
— Полноте, дорогой друг, — уговаривал его Луэллин. — Кто мог предвидеть такой случай? Ну, прошу вас, перестаньте. Подите наверх и утешьте жену.
С опущенной головой, держась за перила, Эндрью пошел наверх. Перед дверью спальни он остановился, едва дыша, потом, спотыкаясь, вошел.
К 1927 году у доктора Мэнсона в Эберло была уже достаточно солидная репутация. Практика у него была не слишком большая, список пациентов численно не очень увеличился с тех первых тревожных дней его появления в городе. Но каждый человек из этого списка глубоко верил в своего доктора. Он прописывал мало лекарств. Он имел даже неслыханную привычку отговаривать больных принимать лекарства, но уж если он какое-нибудь лекарство рекомендовал, то прописывал его в потрясающих дозах. Нередко можно было видеть, как Гедж, горбясь, шел через приемную с каким-нибудь рецептом в руках.
— Как это понять, доктор Мэнсон? Шестьдесят гран бромистого калия Ивену Джонсу! А в фармакопее указана доза в пять гран!
— Ваша фармакопея — тот же «Сонник тети Кэти». Приготовьте шестьдесят, Гедж. Вы же сами рады отправить Ивена Джонса на тот свет.
Но Ивен Джонс, эпилептик, на тот свет не отправился. Неделю спустя припадки стали реже, и его видели гуляющим в городском парке.
Комитет должен был бы особенно ценить доктора Мэнсона, так как он выписывал лекарств (за исключением экстренных случаев) вдвое меньше, чем всякий другой врач. Но, увы, Мэнсон обходился комитету втрое дороже, так как требовал постоянно другого рода затрат, и часто из-за этого между ним и комитетом шла война. Он, например, выписывал вакцины и сыворотки — разорительные вещи, о которых, как с возмущением заявлял Эд Ченкин, никто раньше здесь и не слыхивал. Раз Оуэн, защищая Мэнсона, привел в пример тот зимний месяц, когда Мэнсон с помощью вакцины Борде и Женгу прекратил свирепствовавшую в его участке эпидемию коклюша, в то время как все остальные дети в городе погибали от него, но Эд Ченкин возразил:
— Откуда вы знаете, что помогли именно эти новомодные затеи? Когда я хорошенько взялся за вашего доктора, он сам сказал, что это никто не может знать наверное.
У Мэнсона было много преданных друзей, но были и враги. Некоторые члены комитета не могли ему простить его вспышки, тех рожденных душевной мукой слов, которые он бросил им в лицо три года тому назад на заседании после случая с мостом. Они, конечно, жалели и его и миссис Мэнсон, понесших такую тяжелую потерю, но не считали себя ни в чем виноватыми. Комитет никогда ничего не делает второпях! Оуэн тогда был в отпуску, а Лен Ричардс, заменявший его, занят новыми домами на Повис-стрит. Значит, обвинять комитет было просто нелепо.
За это время Эндрью имел много стычек с комитетом, так как он упрямо желал идти своей дорогой, а комитету это не нравилось. К тому же против него были клерикалы. Жена его часто ходила в церковь, его же там никогда никто не видывал (это первый указал доктор Оксборро), и передавали, будто он смеялся над идеей крещения путем погружения в воду. Среди пресвитериан у Эндрью был смертельный враг — такая важная особа, как сам преподобный Эдуал Перри, пастор Синайской церкви.