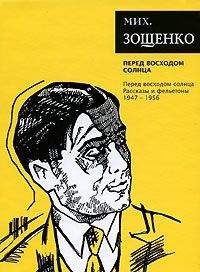Сам Гоголь объяснял эту свою странность тем, что в его теле происходит какое-то «замирание», когда он ложится на кровать, и, кроме того, он «боится обморока».
Далее Анненков сообщает:
«Со светом Гоголь взбивал и разметывал свою постель для того, чтоб служанка, прибиравшая комнаты, не могла иметь подозрения о капризе своего жильца…»
Оказывается, помимо инфантильного страха, который испытывал Гоголь, ему нужно было еще притворяться, что страха нет и нет бегства.
Какие младенческие сцены разыгрывались во взрослые годы! И с какой силой они держали Гоголя!
Вот поразительный пример замечательного ума, находящегося под властью бессознательных представлений.
Какие тягчайшие страдания испытал великий поэт! Какую боль мы испытываем за эти его страдания! Их не было бы, если б контроль над низшими силами был осуществлен.
Эти страдания, испытанные Гоголем, не снижают образ великого художника, поэта, литератора. Не омрачают нашу память о нем. Гоголь был на уровне знаний своего времени. Но уровень науки был недостаточно высок. Наука того времени блуждала в потемках в этой области. Она не смогла помочь Гоголю. Или даже разъяснить ему, как разъясняет теперь нам.
Передо мной на письменном столо лежат еще несколько исследований. И выводы в одинаковой мере сходятся.
Я не стану затруднять читателя подробностями этих исследований. Мне кажется, что и два приведенных примера достаточно убеждают.
В чем убеждают? Хотя бы в том, что необходим контроль разума над низшими силами.
Однако я приведу еще несколько коротких примеров из этой области.
Свое мрачное состояние Некрасов приписывал расстроенному здоровью, главным образом болезни печени. Некрасов пишет:
«Доктор Циммерман объявил, что у меня расстроена печень. Итак, я дурю от расстройства печенки!..»[120]
Долгие годы Некрасова лечили от этой болезни.
Однако после смерти тело было вскрыто, и внутренние органы, включая печень, найдены были в хорошем состоянии.
Доктор Белоголовый,[121] присутствовавший при вскрытии, пишет:
«Для 52 лет он сохранялся изрядно.[122] Никаких болезней, кроме конституционального специфического расстройства, не было».[123]
Меланхолия же сопровождала Некрасова всю жизнь. Даже семнадцатилетним юношей, едва вступив в жизнь, Некрасов писал:
И в новый путь с хандрой, болезненно развитой,
Пошел без цели я тогда…[124]
Эта «болезненно развитая хандра» происходила не от болезней тела. Причины ее лежали в ином. Даже при поверхностном анализе можно было убедиться в наличии бессознательных представлений, подчас одерживающих верх.
Предполагалось, что у Салтыкова (Щедрина) опухоль в мозгу, так как у него были, как пишет доктор Белоголовый, «судорожные сокращения в мышцах тела… — до такой степени сильны, что писание стало для него не только затрудни тельным, но и почти невозможным».
В 1881 г. (пишет Белоголовый) «эти подергивания стали чрезвычайно велики и приняли вид Виттовой пляски».
Кроме того, у него возникли «боли в глазах, не связанные ни с каким очевидным поражением глазного аппарата».
Эти симптомы и «мучительные припадки свойственной ему хандры» навели врача на мысль, что у Щедрина «имеется опухоль или киста в мозгу».[125]
Однако по вскрытии (как сообщает тот же врач) ни опухоли, ни кисты, ни каких-либо изменений в тканях мозга не было обнаружено.
Причины, несомненно, гнездились, в функциональных расстройствах, в бессознательных представлениях, в сфере ошибочных чувств, ошибочных ответов на те раздражения, кои не соответствовали силе и целесообразности этих ответов.
Вероятно, современная наука в первую очередь произвела бы анализ психики, прежде чем высказывать предположения об опухоли в мозгу.
Такого рода анализ, быть может, сохранил бы жизнь величайшего романиста Бальзака.
История его любви (к Ганской[126]) есть история его болезни и гибели.
В течение многих лет он переписывался с этой женщиной. Он ее любил с той силой, на какую способен человек большого сердца и большого ума.
На расстоянии (они жили в разных странах) она не была ему «опасна». Но когда она захотела уйти от мужа, чтоб приехать к нему, он написал ей:
«Бедная привязанная овечка, не покидай своего стойла».
Однако она «покинула свое стойло». Она приехала (в Швейцарию) — чтобы повидаться с Бальзаком. Однако это была несчастная встреча. Бальзак почти избегал Ганскую.
Биографы были поставлены в тупик его поведением.
Один из биографов пишет:
«Он почувствовал боязнь узнать ту, которую любил».
Другой биограф пишет:
«Он испугался слишком большого счастья» (!).
Третий биограф делает вывод:
«У него была скверная комната, и он стеснялся приглашать ее к себе».[127]
Какой вздор! И какие пошлые мотивы найдены для объяснения бегства, обороны, страха.
Но вот у Ганской умер муж. Все нравственные мотивировки отпали. Никаких отступлений больше не могло быть.
Бальзак должен был выехать в Польшу, чтоб жениться на Ганской.
Биограф пишет, что это решение ехать необыкновенно взволновало его.
«Сев в коляску, Бальзак чуть было не остался там навсегда».
С каждым городом, приближаясь к цели путешествия, Бальзак чувствовал себя все хуже и ужасней.
У него началось удушье в такой степени, что дальнейший путь казался ненужным.
Он приехал в Польшу почти развалиной.
Слуги поддерживали его под руки, когда он вошел к Ганской.
Он бормотал:
«Моя бедная Анна, я, кажется, умру прежде, чем дам вам свое имя».
Однако это его состояние не оборонило его от венчания, которое было назначено заранее.
Последние дни перед этим Бальзак был почти парализован. Его внесли в церковь сидящим в кресле.
Он вскоре умер. Умер пятидесяти лет от роду. Это был человек огромной физической силы, огромного темперамента. Но это не спасло его от поражения.[128]
Мы видим на этом примере, какой силы может иной раз достичь противник. И какая иная оборона требуется для победы над ним, над ложными инфантильными представлениями, столь устрашающими наш бессознательный мир.
Таких примеров поражения, примеров тоски, болезней и гибели можно привести немало. Но я этим ограничусь.
Люди видели перед собой, казалось бы, наглядные примеры: высокий ум чаще других терпит страдания. Казалось, эти страдания относятся ко всякому высокому уму. Казалось, высокий ум несет беду, горе, болезни. Однако эти страдания вовсе не относились к высокому уму. Они относились к уму, главным образом связанному с искусством, с творчеством, в силу особых, специфических свойств этого ума, в силу склонности этого ума к фантазиям, к сверхчувствительным восприятиям. Именно эти особые свойства ума (чаще всего наследственного характера) давали большую возможность для возникновения ошибочных нервных связей, почти всегда основанных на ложных младенческих фантазиях!
Однако это вовсе не означает, что все люди искусства, творцы и фантазеры, обязательно несут с собой болезни и воздыхания. Эти болезни возникают в силу несчастного стечения обстоятельств. А свойства ума являются только лишь благоприятной почвой для их возникновения.[129]
Вот где кроется ошибка. И вот где истоки хулы, произнесенные разуму. Высокое сознание не является чем-то опасным. Даже для сверхчувствительного ума, склонного к фантазиям, вовсе не обязательны страдания и психоневрозы.
Есть множество примеров, когда высокая одаренность и даже гениальность вовсе не сопровождаются болезнями, безумием, неврозом. Напротив, мы наблюдаем в этих примерах абсолютное здоровье и норму во всех отношениях.
Абсолютное здоровье вовсе не лишает возможности быть творцом-художником. Напротив, абсолютное здоровье — это идеал для искусства. Только тогда искусство может быть полноценным. И таким, как оно должно быть. Правда, абсолютно здоровый человек может иной раз предпочесть реальную жизнь бесплодным фантазиям. Ему, пожалуй, будет некогда забивать свою голову придуманными персонажами. Он предпочтет, быть может, думать о живых людях, о подлинных чувствах. Он предоставит фантазировать людям, кои и без того мыкаются среди своих фантазий, не умея в полной мере реализовать свои чувства в силу своих страхов и заторможений.
Вот почему мы чаще видим искусство и болезни в опасной близости.