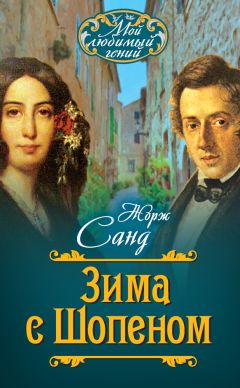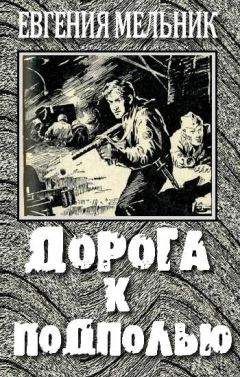— Да, мое ремесло оказалось бы в таком случае одним из самых приятных! — произнес мельник с улыбкой, обличавшей живой ум. — Пшеница — самое благородное растение, а хлеб — самая добрая пища. Мое дело считалось бы достойным некоторого уважения, и, может быть, по праздникам стали бы украшать венком из колосьев и васильков бедную «Большую Луизу», на которую сейчас никто и внимания не обращает. Но что поделаешь! «На сегодня», как говорит господин Бриколен, я всего только его поденщик, и он думает обо мне примерно так: «Подобного разбора человек смеет помышлять о моей дочери? Жалкий бедняк, который мелет чужое зерно, тогда как я сею свой хлеб и на своей земле!» Понимаете, какая, выходит, между нами разница? А на самом деле вся-то разница в том, что у меня руки чистые, а у него по локоть в навозе. Ну вот, голубчик, мы все сделали, теперь живо ужинать! Я уверен, что суп вам покажется вкуснее, чем утром, даже если он будет солонее в десять раз. А потом я, пожалуй, отправлюсь в Бланшемон, отвезу эти два мешка.
— А меня не возьмете?
— Еще чего! Конечно, нет! Вам что, хочется, чтобы вас увидели на ферме?
— Меня там никто не знает.
— Это правда. Но что станете вы там делать?
— Да ничего. Помогу вам сгружать мешки.
— Ну и что это вам даст?
— Быть может, кто-нибудь пройдет по двору…
— А если этот кто-нибудь не пройдет по двору?
— Я посмотрю на дом, в котором она живет. Может быть, услышу, как назовут ее имя…
— Мне сдается, что мы доставляем друг другу это удовольствие, и не отправляясь так далеко.
— Да туда же рукой подать!
— На все у вас готов ответ. Вы не сделаете ничего опрометчивого?
— Значит, по-вашему, я ее не люблю? Вы сделали бы что-нибудь такое на моем месте?
— Может, и сделал бы! Если б меня любили… Ну, во-первых, вы не станете на нее смотреть таким же взглядом, как смотрели из слухового окна? Знаете, я было испугался, что вы мне сено подожжете, так горели у вас глаза.
— Я совсем на нее не буду смотреть.
— И не скажете ей ни словечка?
— Да какой же у меня будет повод заговорить с ней?
— А искать ее вы не будете?
— Я даже не войду во двор, если вы не разрешите, буду издали смотреть на стены.
— Так-то будет поумнее. Я позволяю вам постоять у ворот замка да подышать воздухом, которым она дышит, но и только.
На склоне дня оба друга пустились в путь; Софи, нагруженная двумя мешками муки, чинно шагала впереди. У Большого Луи было тяжело на сердце; он говорил мало, отводил душу, нахлестывая резкими ударами бича росшие по обеим сторонам дороги кусты ежевики и дикой белой жимолости, куда более пахучей, нежели садовая.
Они миновали хутор под названием Кортиу, как вдруг Лемор, шедший у обочины дороги, увидел растянувшегося во весь рост под кустами человека, который спал, положив под голову туго набитую суму.
— Ой-ой-ой! — воскликнул мельник, ничуть, впрочем, не удивившись. — Вы чуть не наступили на моего дядюшку!
От звучного голоса Большого Луи спящий встрепенулся. Он живо принял сидячее положение, схватил обеими руками большую палицу, лежавшую у него под боком, и крепко выбранился.
— Не серчайте, дядюшка! — сказал ему мельник смеясь. — Тут перед вами добрые люди, идущие, с вашего позволения, в Бланшемон; ведь хотя вы и говорите, что все дороги принадлежат вам, вы же никому не запрещаете ходить по ним, не так ли?
— Так! — ответил человек, вставая на ноги; при этом обнаружились его огромный рост и отталкивающая внешность. — Я самый покладистый из землевладельцев, правда, малыш? Но наступать мне на голову — значит несколько злоупотреблять моей добротой. Кто этот нехристь, который идет и не видит порядочного человека, покоящегося в своей постели? Я его не знаю, а ведь я знаю всех — и здесь и окрест!
Произнося эти слова, нищий мерил презрительным взглядом Лемора, который, со своей стороны, глядел на него с нескрываемым отвращением. Перед ним стоял костлявый старик в грязных лохмотьях, с жесткой, словно колючки ежа, черной, с сильной проседью бородой. На голове у старика был рваный цилиндр, украшенный белой лентой с бантом и букетиком отчаянно вылинявших искусственных цветов; эта претензия на щегольство производила шутовское впечатление.
— Успокойтесь, дядюшка, — сказал мельник, — этот парень — добрый христианин.
— А откуда это видно? — живо спросил дядюшка Кадош, снимая с головы цилиндр и протягивая его Анри.
— Ну, ну, не понимаете вы, что ли, — сказал мельник Лемору, — дядюшка просит у вас монетку.
Лемор бросил подаяние в шляпу дядюшки; тот сразу же схватил монету и с наслаждением стал ощупывать ее своими длинными пальцами.
— Это, поди, монетка в два су! — воскликнул он с противной улыбочкой. — А может быть, и целый франк времен революции! Да нет, боже милосердный, никак луидор! Да, луидор времен Людовика Пятнадцатого! Это мой король! Я ведь еще застал его царствование! Твой золотой принесет мне счастье, и тебе тоже, племянничек! — добавил он, кладя свою большую, узловатую лапу на плечо Лемора. — Теперь и ты можешь считать себя моим родичем. И с этой поры, будь уверен, я тебя узнаю везде, хоть как ты ни вырядись!
— Ну, нам пора! Прощайте, дядюшка! — сказал Большой Луи, в свою очередь подав старику милостыню. — Так мы друзья?
— До гроба! — очень серьезно ответил нищий. — Ты всегда был хорошим родственником, лучшим во всей моей семье. Потому-то тебе, Большой Луи, я и оставлю все свое имущество. Я уже давно тебе сказал, что так будет, и ты увидишь, я сдержу слово.
— То-то будет удача! Я, черт возьми, очень на это надеюсь! — весело отозвался мельник. — А букетик тоже отойдет мне?
— Шляпу получишь, а букет и ленту я оставлю моей последней любовнице.
— Вот жалость-то! А мне так хотелось получить букетик!
— Ясное дело! — подхватил нищий, зашагав вслед за молодыми людьми, причем достаточно быстро для своего преклонного возраста. — Букет — самое ценное из того, что я оставлю после себя. Он, видишь ли, освященный. Я его получил в часовне святой Соланж.
— Как же такой набожный человек, каким вы себя выставляете, может говорить о любовницах? — спросил Анри, которому это ходячее чучело внушало только омерзение.
— Помолчи, племянничек, — ответил дядюшка Кадош, искоса поглядев на него, — глупости ты говоришь.
— Извините его, он еще ребенок, — сказал мельник, как всегда подшучивая над общим «дядюшкой», — у него еще и бороды нет, а туда же — рассуждает! Но куда вы направляетесь так поздно, дядюшка? Вы надеетесь еще сегодня добраться к себе и ночевать дома? Ведь жилье ваше далековато отсюда!
— Нет, не надеюсь. Я иду себе потихоньку в Бланшемон, хочу попасть на завтрашний праздник.
— Да, правда, это должен быть для вас подходящий день! Соберете, поди, не меньше четырех франков.
— Навряд ли. Но все-таки будет на что заказать обедню в честь святого угодника — покровителя здешнего прихода.
— А вы по-прежнему большой любитель обеден?
— Обедня да водочка, племянник, да щепоть табаку в придачу — вот благодать и для тела и для души.
— Не спорю, да только водочка не настолько согревает, чтобы в ваши годы этаким манером в канаве разлеживаться.
— А я сплю где придется, племянничек. Как устану, остановлюсь, лягу головой на камешек или на суму, когда она не совсем плоская, да и сосну.
— Сегодня, как я погляжу, сума у вас изрядно округлилась.
— Верно. Позволь-ка мне, племянничек, положить ее на спину лошади. Мне тяжеловато ее тащить на себе.
— Нет, хватит Софи груза, что на нее навьючен. Но давайте мне вашу суму, я ее донесу вам до Бланшемона.
— Это ты правильно сделаешь. Ты парень молодой и должен заботиться о своем дядюшке. На, возьми. Блуза-то у тебя того, не только что из стирки, — добавил он с брезгливой гримасой.
— Так это же мука, — ответил мельник, принимая из рук нищего суму, — мука с хлебом не подерутся. — Ну, гром и молния! Насовали же вы туда сухих корок!
— Корок? Я их не беру. Попробовал бы кто-нибудь предложить мне корку, я бы ему швырнул ее обратно в рожу. Однажды я уже задал эдак Бриколенше.
— Значит, поэтому она вас так боится?
— Именно. С тех пор она твердит, что я, того и жди, подожгу ее закрома, — сказал со зловещим видом старик. Затем он добавил тоном ярмарочного паяца: — Ах, бедненькая святая женщина! Она думает, что я злой человек! А кому я сделал что дурное?
— Да никому, насколько мне известно, — откликнулся мельник. — Если б за вами водились худые дела, то были бы вы не здесь, а в другом месте.
— Отродясь не принес я никому вреда! — продолжал дядюшка Кадош, воздев правую руку к небесам. — И власти никогда не предъявляли мне никаких обвинений. Сидел ли я в тюрьме хоть один день за всю свою жизнь? Я всегда следовал божеским заветам, и бог покровительствует мне вот уже сорок лет, все то время, что я снискиваю себе пропитание, прося у людей милостыню.
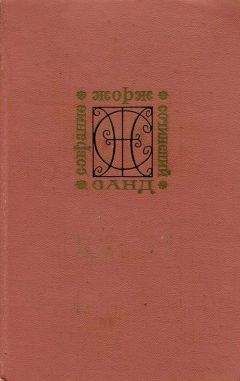
![Жорж Санд - Волынщики [современная орфография]](https://cdn.my-library.info/books/132604/132604.jpg)