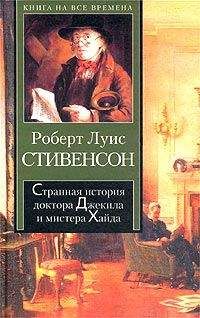— Если это так, значит, что-то неправильно в нашем общественном устройстве. Будьте уверены, самка канарейки настолько же толково исполняет свои обязанности, насколько самец — свои. Но если судить по опыту, приобретённому мной среди лондонской бедноты, то отец зачастую просто паразитирует на жене и детях…
— Возможно, мы оба правы. Но я всё же хотел бы, чтобы вы немного занялись Денисом. Ладно? Возможно, вы не разобрались в его характере. А может, он вас побаивается.
— У вас есть конкретная причина для…
— Мне не нравится как он выглядит. В последние дни в нём появилось нечто трагическое.
Мистер Херд почувствовал некоторую досаду. В конце концов, он приехал на Непенте не для того, чтобы утешать впавших в меланхолию студентов.
— Прискорбно думать, что юноша выделил именно меня в качестве объекта недоверия, — сказал он. — Хотя с другой стороны, я не замечал, чтобы у него и для других находилось много слов — для Консула, например, или для мистера Мулена.
— Для Мулена? Он совершенно прав, не желая связываться с Муленом. Совершенно прав. Это доказывает, что у него есть интуиция. Я выяснил, кто такой Мулен. Мерзкий тип. У него много чего на совести. Живёт за счёт женщин и шантажа. Его настоящая фамилия Ретлоу.
И словно желая оставить эту тему, мистер Кит раскурил сигару.
— Вы сказали Ретлоу? Странно.
Фамилия показалась епископу знакомой. Где он её слышал прежде? Он порылся в памяти. Где же это могло быть? Ретлоу… Фамилия не очень распространённая. Видимо, какая-то давняя история. Но где?
В Африке, или может быть раньше?
Его размышления прервал голос старого лодочника, который, выпустив весло, указал на темневший неподалёку утёс и произнёс на сносном английском (все представители старшего поколения туземцев говорили по-английски, — их дети осваивали русский): — Скала самоубийц, джентльмены. Ах! Много бедного христианина я здесь подобрал. Бросился вниз. И умер. Иногда на кусочки. Здесь кровь. Здесь мозги. Здесь нога и ботинок. Здесь палец. Ах! Бедный христианин. Это так, джентльмены.
Епископ, поёживаясь, оглядел мрачную базальтовую стену и обернулся к своему спутнику.
— Отсюда действительно кто-нибудь бросается вниз?
— Довольно редко. Не больше трёх-четырёх человек за сезон, так мне говорили. Местные жители, если и кончают с собой, то как правило без эффектов, которых позволяет ожидать окрестный пейзаж. Стреляются или травятся, проявляя тем самым заботу о ближних. Мало, знаете ли, приятного тащиться в такую даль на вёслах и с риском сломать себе шею лезть на скалы, по кускам собирая в мешок из-под картошки человеческие останки.
— Да уж, приятного мало!
— По сравнению с Англией, — завёлся Кит, — жизнь здесь представляется более напряжённой, пульсирующей, драматичной — своего рода леденящим кровь фарсом, полным дурацких преступлений и невероятных совпадений. Здешняя почва пропитана кровью. Люди то и дело убивают друг друга или самих себя, исходя из мотивов, для англичанина совершенно непостижимых. Хотите, я расскажу вам об одном интереснейшем случае? Я в то время как раз был на острове. Жил тут один молодой человек — приятнейший молодой человек — художник; он был богат, владел виллой, писал. Мы все его любили. И вот понемногу в нём начали проступать угрюмость и замкнутость. Он уверял, что изучает механику. Он мне сам говорил, что как бы ему ни нравилась ландшафтная живопись, но он считает художника — настоящего художника, сказал он — обязанным владеть дополнительными научными знаниями, разбираться в фортификации, в резьбе по дереву, в архитектуре и так далее. Знаете, как Леонардо да Винчи. Так вот, в один прекрасный день обнаружилось, что он заперся у себя в спальне и не выходит. А когда выломали дверь, то увидели, что он соорудил очень красивую гильотину; нож упал; он лежал по одну сторону от неё, а голова по другую. Удивительная история, верно? Я тщательно изучил все обстоятельства. Здоровье у него было отменное, его высоко ценили как живописца. И никаких неприятностей, ни денежных, ни семейных.
— Но что же в таком случае?..
— Атмосфера Непенте. Она его допекла, расшатала нервы. Вас это удивляет? Неужели вы сами не ощущаете её воздействия? Этот слепой ветер, море, сияющее на бархатистых глубинах, словно наполненное электрической жидкостью, буйство растительности, скалы, каждый час меняющие цвет? Вон, взгляните на ту вершину, разве она не полупрозрачна, как аметист или какой-нибудь кристалл? Да один этот берег — откровенное бесстыдство его каменного обаяния — способен так подействовать на человека определённого склада, что от его душевного равновесия ничего не останется. Рассудок северянина становится здесь изменчивым, восприимчивым, неустойчивым, неуравновешенным — каким хотите. В самой яркости здешних красок присутствует нечто, разлагающее этот рассудок на составные части и собирающее их вновь, создавая совершенно нежданный рисунок. Именно это имеют в виду люди, говоря, что они «заново открыли себя» на Непенте. Разумеется, когда механизм разобран до винтика, открыть, как он устроен, не трудно. Вы понимаете, о чём я?
— Понимаю.
Епископ кивнул. Да и как не понять? Что-то похожее происходило в эту минуту и с ним. Он тоже открывал себя.
— А вам, Кит, приходилось себя открывать?
— Да, но иным способом и в иных местах. Я приезжаю сюда ненадолго — один раз весной и ещё дней на десять в сентябре. Да и то мне приходится нелегко, даже с учётом того, что я не склонен поддаваться внешним влияниям. Я уже миновал эту стадию. Я слишком стар, слишком бесчуствен. Что мне нужно? Куропатка en casserole[43] да возможность наслаждаться вашей беседой («наслаждаться моей беседой!» — подумал епископ), мне это дороже любой атмосферы в мире. Но я наблюдаю людей, стараюсь проникнуться их чувствами, поставить себя на их место. Je constate,[44] как говорят французы. Другим людям ландшафт Непенте кажется исполненным жизни и зачастую недоброй. Они делают то, что на севере не сделать трудно — очеловечивают его, отождествляют различные его особенности с собственными настроениями, его черты со своими привычными представлениями.
Мистер Херд вспомнил о величавых клубах тумана, за которыми он следил всего час назад — о дочерях старика Океана.
— Очеловечивают, — отозвался он, — впадая в мифотворчество.
— Быть может, само то обстоятельство, что вся атмосфера Юга допускает истолкование на близком смертному языке, и породило антропоморфных богов классического периода. Мне нередко кажется, что так оно и есть. Даже мы, люди современные, чувствуем как на нас неприметно воздействуют многие её проявления, порою на манер любовного зелья, порою — самим своим совершенством, обескураживающим очарованием, вызывающей красотой — внушая нам мысль о тщетности всех человеческих усилий… Денис! Я сказал бы, что именно сейчас он способен на всё. Можно ли вообразить, чтобы человек вроде него остался бесчувственным к соблазнам подобного окружения?
— Я о нём как-то никогда всерьёз не задумывался.
— Правда? Нет, Херд, вы меня действительно заинтриговали. Если вы отрицаете восприимчивость человека с таким темпераментом, как у него, вы отрицаете тем самым воздействие внешних условий на характер и поведение любого человека. Вы отрицаете, к примеру, успехи Католической церкви, основанные, в том, что касается морали, на притягательности оптических впечатлений и на той лёгкости, с которой преходящие чувства преобразуются в нормы поведения. Вы всё это отрицаете?
— Ни в малой мере. Я видел эту систему в действии достаточно часто, чтобы убедиться в её чрезвычайной простоте.
— И вспомните также о поразительной истории этого острова, о его расположении там, где сходятся пути людей всех рас и вероисповеданий. Всё это побуждает к мгновенной нервной разрядке, то есть, с точки зрения человека поверхностного, — к дурацким поступкам…
— Все дураки! — вмешался лодочник. — Все иностранцы! Мы, люди, такого не делаем. Только чёртовы дураки иностранцы. Это так, джентльмены. У них самих неприятности, тогда они идут на эту скалу и бум! делают друзьям неприятности.
— Бум! — эхом откликнулся сын лодочника, видимо, уловивший подспудный смысл его речи. Чета греческих гениев на корме разразилась безудержным хохотом, ибо сознавала, что юноша понятия не имеет, о чём говорит отец.
— Бум! — издевательским хором повторили они.
И в тот же миг все, кто был в лодке, навострили уши. Звук долетел до них — похожий звук, напоминающий далёкий выстрел из большого орудия. Бум! Звук, дробясь, прокатился по скалам. Гребцы подняли вёсла. Все прислушались.
Звук повторился. На этот раз о его происхождении нечего было и спрашивать. Стрельба из орудия, никаких сомнений.
Старый лодочник исполнился ненатуральной серьёзности.