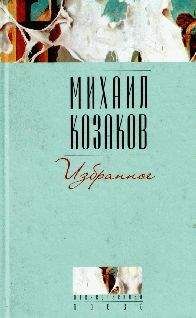с гневом.
— Я не верю в идею рока. Мои рассуждения имеют столько же шансов остаться долговечными, сколько и ваши. Так я думаю, так я живу. Для меня в этом и смысл жизни, и это -— моя страсть. Во всяком случае, казарма мне противна, а тяжелая артиллерия и авиабомбы в моих глазах и ужасны и безобразны:
— Но ведь вы тоскуете по Европе, по Франции. Ваши первые слова были: «я пятнадцать лет не видел ни одного француза».
— Да нет же! Я сказал: «ни одного умного француза».
— Ну что ж! Вы видели, что и я не очень отличаюсь от остальных.
— Да, не очень! По-моему, быть умным — значит различать, что есть хорошего в жизни, и уметь пользоваться им. Не старайтесь разжалобить меня. Почему это я должен тосковать по Парижу больше, чем1 по Флоренции, по Веймару или по Оксфорду, по всем славным городам, о которых я мечтал с восемнадцатилетнего возраста и которые, конечно же, погибнут при ближайшем землетрясении? Клянусь вам, я одинаково тоскую по всем этим городам. Они все одинаково нужны мне. Это не расплывчатый космополитизм. Я ценю все эти города маленькой республики — республики настоящих людей. Но я очень легко обхожусь и без них. Меня охватывает ужас от вашей демагогии, созданной для домоседов. Во все времена люди, которые хотели по-настоящему жить, должны были передвигаться. Люди, которые доехали до Бургундии, смело могут ехать оттуда в Аргентину или Бразилию. Что ждало меня в жизни? Плодовое дерево, жена и собака? Это имеется повсюду.
— Кстати, у вас есть семья?
— Я двоеженец. Одна жена у меня в Парагвае, а другая сейчас в Калифорнии. У обеих дети. Та, что в Калифорнии, в средствах не нуждается. А той, которая живет в Парагвае, я высылаю деньги, когда имею. В свое время я их любил. Что касается детей, то ни один из них не понравился мне настолько, чтобы удержать меня. Раньше из этого не делали историй. Самая большая моя нежность в мои сорок пять лет —нежность к земле, нашей восхитительной и жестокой родине. Земля принадлежит мне!
День клонился к вечеру. Что бы предпринять до ужина? Взяться за книгу? Но я читал весь день. Покурить, что ли? Но ведь я уже выкурил двадцать трубок. Выпить разве? Ну конечно! Я пошел к человеку, который был всегда готов свернуть шею бутылке. Пройдя коридор, который тянулся вдоль всей штаб-квартиры, я застал моего героя на обычном месте. Он сидел без куртки и со страстью и яростью чесал все тело. Том Блоу был такого громадного роста и так толст, что все мелкие невзгоды походной жизни для него превращались в грандиозные приключения Гулливера. В этот момент он сидел наклонившись вперед, а это угрожало соседней койке. Но его это не смущало. Он все время ворочался и двигался всем своим огромным телом. Ко всему в жизни Том относился с иронией. Его спокойно-осторожное отношение к жизни проявлялось в долгом и тихом смехе. Этот смех был похож на ракету, которая пробегает долгий и невидимый путь раньше, чем взорваться. Но его смех не взрывался, — он кончался на двух-трех почти торжественных нотах.
Стриженая голова Тома была невелика, но казалась огромной, так как покоилась на толстой шее. По мясистым щекам и маленьким голубым глазам было видно, что ему, несмотря на его вставную челюсть, едва исполнилось тридцать лет.
Блоу разговаривал со мной по-английски, иногда вставляя и французские слова. Но его французские выражения я часто принимал за незнакомые американские слова. Тогда он корчился от хохота, и я сам тоже хохотал, глядя на него.
— Что, Блоу, чешется?
— Ах, эти проклятые вши, чтоб они подохли!
Но тотчас же Том лукаво подмигнул мне.
— Что вы делали сегодня?
— Вы не догадываетесь?
— Нет.
— Ну, ясно же — я завтракал у французов. Эта гнусная американская кухня не для меня создана. Я был в колониальной части. Полковник там замечательный старик. Он держит повара, который прежде служил в Париже, в отеле Ритц. Так что, вы понимаете!.. Я пришел к ним в халупу, когда они кончали завтрак. Но они видели по мне, что я подохну, если мне не дадут паштета, который еще стоял на столе. Этот чудесный полковник приказал принести еще, и я съел целый паштет. Он покропил его бутылкой бордо и не знаю сколькими рюмками коньяку. Коньяк финь-шампань! Это слишком хорошо для американцев. Кроме меня одного. Да, вы, французы, умеете воевать!
У Блоу было в штабе не больше работы, чем у меня. Он пользовался привилегированным положением. Его отец служил полковником в регулярной армии и был товарищем нашего генерала. На этом основании Том вел жизнь бездельника. Этот лакомка был родом из Виргинии и у себя на родине привык к хорошей пище и веселой жизни. Он всегда выискивал лучшие куски и лучшие бутылки и не пропускал ни одной девчонки, хотя бы это и была первая попавшаяся судомойка.
Том прославился на всю дивизию своим отпуском. Он попросился в Орлеан. Ради Жанны Д’Арк? О, нет. Он провел там целую неделю безвыходно в одном маленьком публичном доме. Окруженный пьяными женщинами, пустыми бутылками и грязной посудой, этот громадный ребенок сидел голый в постели и чесал свое тело, изъеденное вшами.
В своей куртке, которая была слишком коротка, он таскался по всему тылу. Эта куртка едва сходилась у него на животе со штанами, которые тоже были коротки. Чтобы сделать себе пояс, он был вынужден сшить два ремешка. Шлем был мал и походил на черепок там, где нужен большой котел.
Том был лишен всякой воинственности. Этот шумливый болтун и враль до такой степени боялся войны, что умолкал всякий раз, когда заходил разговор о его бицепсах. Ему казалось, что слишком хвастливый тон беседы на эту тему мог рассердить бога Марса.
Мы основательно выпили в этот вечер. Том, взглянув на меня, опять стал хитро подмигивать.
— Ну, что вы еще натворили?
— Я расскажу вам, братец, кое-что такое, чего другие не посмеют вам сказать. В Вогезах, — вы помните? — какие мы были несчастные и проклятые идиоты. Мы тогда не знали...
Он намекал на кое-какие мои злоключения. В июне 1918 года я был прикомандирован к американцам, они прибыли на учебный сектор, находившийся в Вогезах, у самой швейцарской границы. Эти американцы презирали Францию. Они успели проехать через всю страну: маленькие домики, кучи навоза, безропотные люди и множество бесстыдных,