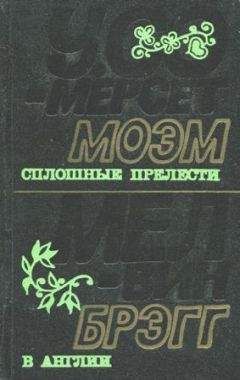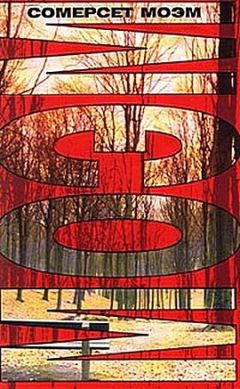— Все равно я считаю его романы довольно нудными.
Рой улыбнулся снисходительно.
— И вас ничуть не смущает, что вы расходитесь с утвердившимся мнением?
— Нисколько. Я в литературе тридцать пять лет, и трудно представить, сколько перевидал гениев, которые, насладившись час-другой славой, погружались в безвестность. Любопытно, что с ними сталось? То ли умерли, то ли попали в сумасшедший дом, или служба заела? Может, дают почитать свои книги врачу или старой деве где-то в глухой деревне. Или еще считаются великими в каком-нибудь пансионе в Италии.
— Ну, то неудачники. Мне такие попадались.
— Вы читали о них лекции.
— Почему бы и нет. Хотелось в меру сил помочь, но сами они ничего не достигли. Отчего, однако, не позволить себе быть великодушным. Но Дрифилд-то ничем с ними не схож. В собрании его сочинений тридцать семь томов, а последнее издание Сотби продавалось по семьдесят восемь фунтов. Это говорит само за себя. Его гонорары постоянно росли и росли, а в прошлом году были больше, чем когда-нибудь. Уж это точно — миссис Дрифилд, когда я последний раз у нее был, показывала мне счета. Нет, Дрифилду не грозит забвение.
— Кто знает наперед?
— Вам кажется, что вы, — кисло бросил Рой.
Я не отступал, видя, что раздражаю его, мне это было приятно.
— Что ж, мои непосредственные юношеские суждения оказались верными. Говорили: Карлейль — великий писатель, а я со стыдом обнаруживал, что не в силах одолеть «Французскую революцию» или «Сартор Резартус». Кто их читает сегодня? Ставя чужие мнения выше собственного, я уговаривал себя: Джордж Мередит великолепен, а в душе находил его вымученным, многословным и неискренним. Теперь так считают очень многие. Я восхищался Уолтером Пейтером, когда им полагалось восхищаться, если ты культурный молодой человек, но, господи, какую тоску наводил на меня Мариус!
— Да, согласен. Теперь вряд ли кто станет читать Пейтера; и Мередит, конечно, весь вышел, а Карлейль — это болтун с претензией.
— Но ведь лет тридцать назад считалось, что бессмертие им обеспечено.
— И вы никогда не ошибались?
— Раз-другой. Прежде я недооценивал Ньюмена и возлагал излишние надежды на звонкие катрены Фитцджералда. Не мог читать у Гёте «Вильгельма Мейстера», а теперь убежден, что это его шедевр.
— А кто вам нравится по-прежнему?
— Ну, «Тристрам Шенди», «Ярмарка тщеславия», «Мадам Бовари», «Пармская обитель», «Анна Каренина». Водсворт, Китс, Верлен.
— Простите, но это не кажется особенно оригинальным.
— Вам не за что извиняться, я и не гонюсь за оригинальностью. Но вы спросили, почему я доверяю собственным суждениям, и я постарался объяснить: что бы я ни говорил с испуга или подделываясь под просвещенное мнение дня, в действительности я не разделял всеобщего восхищения некоторыми писателями, а потом оказывалось, что прав был я. А что мне подсознательно нравилось по-настоящему, выдержало испытание временем у меня и вообще в читательском мнении.
Рой, примолкнув, разглядывал дно своей чашки — то ли проверял, не осталось ли кофе, то ли искал там, что бы сказать. Я кинул взгляд на каминные часы. Уже можно и прощаться. Видно, я оказался не прав, Рой просто пригласил меня поболтать о Шекспире и музыкальных новинках. Я укорял себя за злостные подозрения и смотрел на него с тревогой. Если его цель лишь в этом, значит, он устал или пал духом. Если все бескорыстно, так только потому, значит, что на миг слишком большим показался ему мир. Но Рой не пропустил, что я гляжу на часы, и заговорил:
— Ну как вы можете ставить ни во что человека, который проработал шестьдесят лет, писал книгу за книгой и постоянно завоевывал новых читателей. Ведь в Ферн-корте целые полки заняты переводами книг Дрифилда на языки всех цивилизованных народов. Да, многое из написанного им кажется ныне слегка старомодным, это так. Его расцвет выпал на неудачное время, и старик был склонен к длиннотам, сюжет у него часто мелодраматичен; но есть одно непререкаемое достоинство: красота.
— Да?
— Что ни говори, лишь она — истинная ценность, а любая страница у Дрифилда пронизана красотой.
— Да?
— Вам бы видеть, как мы ездили к нему преподносить его портрет в честь восьмидесятилетия. Поистине памятное событие…
— Я читал об этом в газетах.
— Ведь ездили не только писатели, в депутации были представлены все: наука, искусство, политики, деловые круги и знать, едва ли когда еще удастся увидеть сразу столько выдающихся личностей, сколько вышло из поезда в Блэкстебле. Все растрогались, когда премьер-министр преподнес старику орден «За заслуги» и произнес прелестную речь; сознаюсь, у многих в этот день были слезы на глазах…
— Дрифилд плакал?
— Нет, он единственный остался спокоен. Он был такой, как всегда, довольно застенчивый и тихий, хорошо себя держал, поблагодарил, конечно, но немного суховато. Миссис Дрифилд не хотела, чтобы он переутомлялся, и когда мы пошли в столовую, сел в кабинете; она ему послала на подносе немного поесть. Я выскользнул из-за стола, пока остальные пили кофе. Старик курил трубку и разглядывал портрет. Я спросил, что он о нем скажет. Он не ответил, лишь едва улыбнулся. И посоветовался, нельзя ли вынуть зубы, и я сказал, что нельзя, поскольку депутация сейчас придет прощаться. Потом я спросил, не кажется ли ему, что сегодня происходит знаменательнейшее событие. «Чушь, — сказал он. — Полнейшая чушь». Он, видно, был потрясен, так я его понимаю. В последние годы он неряшливо ел и неряшливо курил — весь обсыпался табаком, набивая трубку; миссис Дрифилд не желала, чтобы посторонние видели его таким, но на меня, конечно, это не распространялось; я его немного отряхнул, а потом все вошли пожать ему руку, и мы вернулись в город.
Я поднялся.
— Ну, мне, право, пора. Было страшно приятно встретиться.
— Я как раз иду на вернисаж в Лестерские галереи. Там у меня знакомство, могу вас провести, если хотите.
— Очень благодарен, но мне прислали приглашение. Я, пожалуй, не пойду.
Мы спустились по лестнице, я взял свою шляпу. Когда вышли на улицу и я повернул к Пикадилли, Рой проговорил:
— Я с вами пройдусь до угла, — и зашагал в ногу. — Вы ведь знали его первую жену?
— Чью?
— Дрифилда.
— А! — Я и забыл о нем. — Да.
— Хорошо знали?
— Отлично.
— Говорят, она была хуже некуда?
— Я как-то не припомню такого.
— Вроде бы совершенное ничто. Она ж ведь была официанткой в баре?
— Да.
— Какого дьявола он на ней женился? Мне всегда давали понять, что она ему без конца изменяла.
— Без конца.
— А вы помните, какая она вообще была?
— Да, ясно помню. — Я улыбнулся. — Она была прелестна.
Рой усмехнулся.
— Другие считают иначе.
Я не ответил. Мы вышли на Пикадилли, и я, остановившись, подал Рою руку. Он пожал ее, но, чувствовалось, без обычной своей сердечности. Видимо, наша встреча его разочаровала. Я не мог сообразить, почему. То, чего он хотел от меня, я оказался не в состоянии исполнить, раз он даже не намекнул, в чем дело; поэтому, идя под аркадой отеля «Ритц» и вдоль ограды парка до самой Хаф-Мун-стрит, я все думал, не слишком ли сухо держал себя с ним. Рой явно счел момент неподходящим для того, чтобы просить об услуге.
Я шел по Хаф-Мун-стрит. После круговерти на Пикадилли приятна была тишина солидной, респектабельной улицы. В большинстве домов сдавались квартиры, но об этом сообщали не вульгарные объявления, а начищенные медные таблички, как у врача, или надпись «квартиры» на полукруглом оконце над дверью парадного. На одном или двух домах с еще большим тактом приводилось имя владельца, так что по неведению вы могли счесть, что тут помещается портной или ссудная касса. По улице не было такого движения, как по Джермин-стрит, где тоже сдавались комнаты; лишь кое-где у дверей стояли добротные автомобили да изредка такси доставляло какую-нибудь даму средних лет. Чувствовалось, живут здесь не так весело и беспардонно, как на Джермин-стрит, где квартируют завсегдатаи скачек, что встают утром с головной болью и ищут, на ком бы сорвать злость; на Хаф-Мун-стрит селились порядочные женщины, приехавшие на полуторамесячный столичный сезон, и пожилые джентльмены, принадлежавшие к элитарным клубам. Год за годом приезжают они в ту же квартиру и, вероятно, знакомы с хозяевами с той еще поры, когда те где-то служили. Моя собственная мисс Фелоуз служила кухаркой в нескольких очень хороших домах, но вы никогда не догадались бы об этом, встретив ее по дороге на Шеперд-маркет за покупками. Она была не дородной, краснолицей и грудастой, какими представляют себе кухарок, а стройной и очень подтянутой, скромно и модно одетой женщиной средних лет с решительным выражением лица, с крашеными губами и в пенсне, деловитой, спокойной, холодно-циничной, и очень дорого брала за квартиру.