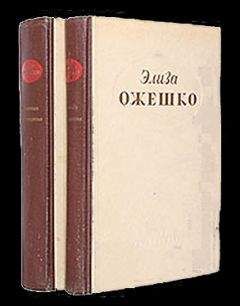— Тем не менее, — снова вмешался в разговор хозяин дома, — вы, chère comtesse[129], видно, не сомневались в благоприятном исходе, если сочли возможным сообщить княгине Б., баронессе М. и многим другим, что нашей семье пожалован Римом графский титул.
Теперь в затруднительное положение попала графиня, уличенная в женской болтливости, а граф Август расправил плечи и, поглаживая бакенбарды, заметил с улыбкой:
— Графиня возлагает большие надежды на дипломатические способности сына…
— И не ошибается, — сказал граф Святослав, — Мстислав и в самом деле un jeune homme très capable[130]. Я уверен, что на месте Вильгельма он придумал бы какой нибудь дипломатический ход, чтобы достать машины для алексинской фабрики.
Победа опять осталась за графиней, а граф Август смутился и приуныл. Как видно, от графа Святослава зависели радость и огорчение, торжество и унижение этих двух людей, добивавшихся его благосклонности, а он получал удовольствие, играя на их чувствах.
Аббат прервал эту милую семейную беседу, заметив, что венский поезд уже прибыл и граф Мстислав с минуты на минуту предстанет перед родными.
— Жалко, что Павлик уехал с Цезарием в Литву, — заметил граф Август, — а то бы он встретил Мстислава…
— Pardon, cher comte, qui est ce que ça…[131] Павлик? — спросила графиня.
— Eh, bien! Paul, notre cousin[132] и ваш, chère comtesse, экс — паж и воспитанник.
Подпущенная графом Августом шпилька заставила графиню покраснеть. Как! Сказать, что у нее, словно у какой нибудь легкомысленной кокетки, был «паж»! Какая дерзость!
— Нехорошо получается, — продолжал младший брат, — такое важное событие, и никто из семьи не встречает Мстислава. Мне же неудобно встречать собственного племянника. Жаль, что Поля нет, хотя, с другой стороны, бедный наш Цезарий совсем бы пропал без него в деревне.
На слове «бедный» граф Август сделал ударение и вздохнул.
— Цезарий совсем еще ребенок, — отозвался граф Святослав.
— Pardon, cher frère[133], — перебил его брат, — этому бедному ребенку уже двадцать три года.
— Некоторые люди до старости остаются детьми. Боюсь, что Цезарий относится к их числу.
— Mon Dieu![134] — вздохнула графиня. — Как бы я была счастлива, если бы Цезарий обладал хоть десятой долей того ума, воли и того… savoir vivre[135], которыми небо так щедро наделило Мстислава!
— Не ропщите, графиня, не ропщите, — тихо сказал аббат, — пути господни неисповедимы, и нам не дано знать, почему одного брата он наградил всеми дарами, а другому, не менее достойному, отказал в них… Душевные качества графа Цезария должны радовать любящую и благочестивую мать… У него ведь тоже доброе сердце.
— Hélas![136] — тихо вздохнула графиня, но, вместо того чтобы вступиться за младшего сына, о котором, понизив голос, с насмешливой улыбкой что то рассказывал брату граф Август, она погрузилась в созерцание альбома.
Замолчал вскоре и граф Август, видя, что самые его тонкие намеки и остроты наталкиваются, как на стальную броню, на ледяное равнодушие брата. Аббат смотрел в окно; графиня не поднимала глаз от альбома. В комнате воцарилась тишина — торжественная тишина перед важным событием. Но, прежде чем оно свершится и карета с любимцем и баловнем семьи — графом Мстиславом — подкатит к подъезду, мы, поскольку у нас нет оснований с таким же нетерпением ожидать его приезда, приоткроем завесу над недавним прошлым и посмотрим, зачем молодому графу понадобилось ездить в Рим.
Весь сыр — бор загорелся, как уже, наверное, смекнул догадливый читатель, из за графского титула. К превеликому нашему сожалению, с титулом произошло то же, что и с именем Помпалинских. Из за низкой зависти или преступной нерадивости все до одного летописцы, историки и геральдики предали его забвению. Точно так же и родословная или какие либо другие грамоты, подтверждающие право Помпалинских на графский титул, бесследно исчезли из за тайных интриг или непростительной беспечности предков.
Из частной переписки и других неофициальных документов явствовало, что еще отец трех ясновельможных братьев подписывался: граф Помпалинский. От отца титул унаследовали и сыновья. Реже и осторожней других и почти всегда только за границей называл себя графом старший брат Святослав. Ярослав и Август меньше себя сдерживали в этом отношении; однако и они, надо отдать им справедливость, знали меру. Что же до третьего поколения, то граф Мстислав, не утруждая себя изучением семейных архивов, просто решил, что титул так же ему причитается, как поместье с воздвигаемым там маленьким Ватиканом, и употреблял его направо и налево, ни минуты не сомневаясь в его законности. С его легкой руки графский титул из частных писем и с визитных карточек перекочевал даже на официальные бумаги. На первый раз это сошло благополучно, не привлекая ничьего внимания; сошло и на второй, и на десятый, но на двадцатый или двадцать первый произошел скандал. Официальный документ за подписью: «Мстислав Вацлав Кароль, граф Дон — Дон Челн — Пом- палинский» обрушил на молодого графа катастрофу в лице чиновника, который с безукоризненной вежливостью объяснил, что в вышеупомянутую подпись вкралась небольшая ошибочка, а именно, по мнению властей, одно слово из семи лишнее, и они, то есть власти, вынуждены настоятельно просить не прибавлять его впредь к своей фамилии. На этот раз за незаконное употребление титула придется только уплатить штраф; но в случае несогласия грозит судебный процесс. «Я не сомневаюсь, — сладко пропел «приказный крючок», — что славный род Помпалинских при его заслугах, добро детелях и богатстве достоин графского титула. Но что поделаешь! Закон есть закон! С некоторых пор право ношения титула у нас строго проверяется. Необходима бумага! Только маленькая — премаленькая бумажка, — и все будет в порядке! Я уверен, я глубоко убежден, что ясновельможный пан без труда исходатайствует себе эту бумажку, и тогда…»
Тут граф Мстислав, который, полулежа в шезлонге, терпеливо слушал льстиво — витиеватую речь «крючка», приподнялся, потянул шнурок от звонка и сказал вошедшему лакею:
— Жорж, выстави этого господина за дверь!
Сидевший на краешке стула «приказный крючок».
вскочил как ужаленный, быстро положил на инкрустированный столик бумагу с большой серой печатью и, поклонившись два раза, без посторонней помощи покинул дворец. А молодой граф поднялся с шезлонга, схватил бумагу и скомкал ее; но, подумав, снова позвал лакея:
— Жорж, ступай и спроси, может ли дядя сейчас принять меня.
Вернувшись, Жорж доложил, что граф ждет его.
Не прошло и двух минут, как Мстислав уже был наверху, в кабинете дяди. По нервным жестам и негодующему лицу племянника хозяин дома сразу догадался, что произошла какая то неприятность. Но он не выказал ни любопытства, ни волнения.
— Qu’y a t il donc? [137] — спокойно спросил он.
— Дорогой дядюшка, — начал Мстислав, задыхаясь и от волнения даже позабыв обратиться к нему по — французски. — Ужасная наглость! Прямое оскорбление!.. Мне жаль, но я должен тебя огорчить.
— Пустяки, — недовольно перебил дядюшка, — огорчай, только говори поскорей, в чем дело! Tous ces emportements me donnent horriblement sur les nerfs![138]
— Lisez ceci, mon oncle[139], — изрек Мстислав и театральным жестом протянул ему бумагу с печатью.
— Не люблю разбирать всякие каракули. Sois si bon[140], скажи, что это такое…
Мстислав объяснил, и каково же было его удивление, когда он увидел, что рассказ ничуть не взволновал дядюшку. Неужели ничто — ни оскорбление, ни позор— не может вывести этого каменного человека из равновесия?
— Eh bien[141], — отозвался граф Святослав, — не вижу, из за чего тут выходить из себя и огорчаться… et que puis je, moi, faire pour ton plaisir? [142]— Я хочу знать, графы мы или нет? — еле сдерживая возмущение, спросил племянник.
Граф Святослав помешал золочеными щипцами в догоравшем камине и сказал:
— C'est selon[143]. Для черни, для простонародья любой человек с нашим состоянием и положением в обществе — граф. С этой точки зрения мы, конечно, графы, и самые доподлинные, потому что у нас нет долгов и в двух поколениях не было мезальянсов. А вот с этой (он указал на казенную бумагу), с официальной… у нас титула нет и никогда не было.
Мстислав широко раскрытыми глазами уставился на дядюшку.
— Vous plaisantez, mon oncle! [144]
— Убедись сам!
— И вы говорите это так спокойно!
Всегда опущенные углы рта слегка приподнялись, и на губах зазмеилась чуть заметная усмешка.
— Мне не двадцать пять лет, mon enfant[145].