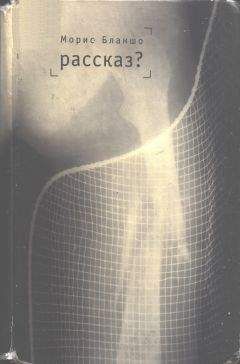— И это все? — спросил Аким. — Но вы же описываете покой и счастье, нечто необыкновенное, то чувство, которое лежит в самом сердце любой идиллии, истинное бессловесное счастье.
— В самом деле? — произнес надсмотрщик. — Вы в самом деле так это назвали бы?”
Чужак послушал еще немного шелест листьев, сухость и бесплодие которых разносил ветер. Запах становился удушающим. В котловине вокруг дома застаивался болотный запах со всего города. Он вернулся в дом и обнаружил, что надсмотрщик спит глубоким сном на куче мешков; но на следующее утро не кто иной как он злобно объявил Акиму:
— Не советую выходить по вечерам: учти, за это причитается пять ударов кнутом.
Сразу пополудни, когда Аким собирался отправиться в город, появился старик в сопровождении родственников: двоих молодых людей с почти коричневой кожей, которые не произнесли ни слова, и трех толстеньких приземистых девушек. Старик объяснил своим товарищам: “Это дети моих братьев”, и представил Акиму младшую, выряженную в белое хлопчатое платье. У поначалу смущенных девушек давно было на уме посетить это прославленное учреждение, вход куда семьям заключенных, пока не пробьет час их освобождения, был заказан. Они тупо сновали по коридорам, по душевым комнатам на втором этаже и даже по темным камерам в глубине подвала.
— У себя в деревне я никого не узнал, — сказал старик. — Среди своих же почувствовал себя изгоем. Воспоминаниям о родине не устоять перед временем.
Акиму подумалось, что эти слова были произнесены, чтобы его утешить, но вместо этого понапрасну ранили его надежды.
— Приняли меня по-дружески; но чего стоит забота тех, кто стал тебе совсем чужим? Я слишком стар.
Вернулись запыхавшиеся, с сверкающими глазами девушки, их лица лоснились от пота. Они были некрасивы, но пригожи.
— Я вернусь, — сказал старик Акиму. — Думай о будущем.
Хотя на посещение города у него оставалось совсем мало времени, Аким вновь углубился в лабиринт узких улочек и зашел все к тому же торговцу старыми книгами.
— У вас действительно нет работ, посвященных окрестностям, — спросил он, — их почтовых карточек, картин?
— Едва ли что-нибудь найдется, — сказал торговец, — но все же, чтобы вам угодить, пойду поищу.
Пока он взбирался по лестнице и скидывал поспешно отбранные на полках книги себе в фартук, Аким спросил:
— Правда ли, что директор и его жена…
— Что именно? — сказал торговец.
— Разве они не счастливы?
— Кому об этом знать, как не вам? — сказал торговец. — Заключенные всегда прекрасно осведомлены. От них-то мы многое и узнаем.
— Ну, я думаю, что их супружество было самой настоящей идиллией. Мне редко приходилось сталкиваться с настолько совершенным союзом.
— Ну да, ну да, — поддакнул, спускаясь вниз, торговец. — Вот, я думаю, то, что вам нужно.
Это была очень старая книга, которая прослеживала историю всего района и в нескольких местах оказалась снабжена иллюстрациями. Аким поинтересовался, не существует ли трудов поновее.
— Это большая редкость, — откликнулся, ничего не поняв, торговец. — Вы можете изучать ее в свое удовольствие, но я не могу позволить вам ее уносить. Читайте ее на этом пюпитре.
Аким уселся на высокий табурет и, наслаждаясь царившим в магазинчике покоем, почерпнул из своего чтения куда больше пользы, нежели мог надеяться.
— Луиза была моей ученицей, — внезапно произнес торговец. — Она частенько играла в этом магазине и по моим книгам училась читать.
— Прямо здесь? — переспросил Аким.
— Да. Она была очень веселым, но рассудительным ребенком. Часто любовалась картинками, красивыми буквицами. И умело перерисовывала их очертания. Ну разве можно было не пожелать ей счастья?
— Да, это любопытно, — сказал Аким и, поразглядывав отдельные иллюстрации, спросил, нельзя ли и ему тоже перерисовать их самые красивые детали. Затем, поскольку было уже поздно, он, несмотря на полученное разрешение, поспешно покинул магазин.
В приюте его поджидала тягостная обязанность. В загон, служивший заключенным двором, согнали подобранных на улицах города бродяг — неприятных с виду, согбенных усталостью, диких. Чужаки, которые уже провели в доме некоторое время, должны были по очереди заниматься новичками, смягчая им превратности непривычного заточения. Аким сказал одному из этих убогих:
— В этом доме вас научат, как трудно быть чужаком. Выучите вы также, как нелегко и перестать им быть. Если вы тоскуете по своим краям, то здесь с каждым днем будете находить для своей тоски новые поводы; но если вам удастся их забыть и полюбить свой новый быт, вас отошлют назад, и там, в очередной раз изгой, вы начнете новое изгнание.
Об этих словах сообщили директору, и тот довел до сведения Акима, что в следующий раз его накажут. Аким тут же попросился к нему на прием, ему отказали. На следующий день ему пришлось отбыть с вновь прибывшими в карьер, хотя болезнь, чувства, которые по отношению к нему высказывались, и его собственное поведение, поведение свободного человека, привели его к мысли, что он навсегда избавлен от подобных испытаний. Этот выжженный зноем пейзаж с его худосочными горами, в которых подобно насекомым копались дисциплинированные и педантичные рабочие, с его обширными заваленными камнями котлованами, постепенно опустошаемыми посредством механического транспорта, вверг его в горячечное возбуждение, в котором ему казалось, что он то гибнет в своей чрезмерной обособленности, то отыскивает путь на свободу. Смешивая со своей лихорадкой обрывки действительности, которую замечал только для того, чтобы ее проклясть, он подбежал к одному из рабочих и, выхватив у него кирку, принялся с остервенением врубаться в скалу. Ему казалось, что эта работа, куда более полезная, чем труд бродяг, придает ему новое достоинство, а каждый удар кирки представлялся новым ударом по стенам его тюрьмы. Вместе с тем здесь, под жарким солнцем, он ощутил какую-то неведомую свежесть, словно среди мук отчаяния, среди позывов ненависти сохранилось некое чистое и доброе чувство. Исторгнутый из этого бреда и запертый в пещере, он вновь впал в прострацию, утратив всякий интерес к течению дней, и вскоре оказался вместе с другими заключенными в одном из возвращавшихся в приют конвоев. Там его встретил старый Пиотль — теперь он мог носить свое настоящее имя — вместе со своей младшей племянницей, одетой на сей раз в яркое платье, в волосах у нее алели маки.
— Я приходил, чтобы повидаться с вами, каждый день, — сказал он Акиму. — Я испытываю к вам искреннюю дружбу и хотел бы оказать услугу. Женитесь-ка на моей племяннице.
Из прочтения маленькой книжицы Аким вынес, что, женившись, заключенный немедленно покидает приют, дабы следовать за своей женой. Но его ужаснул этот обычай, и он сухо отказался.
— В вашем отказе чувствуется деликатность, — сказал Пиотль. — И потому я ценю вас еще больше. Но обдумайте мое предложение, и вы превозможете отвращение, которое сегодня мешает вам его принять.
В первую же после своего возвращения ночь он услышал жуткий вопль, заставивший его содрогнуться. Оттолкнув охранника, он бросился в дом и наткнулся там на Луизу; в едва наброшенном халате, с мертвенно бледным лицом, вытянув перед собой руки, словно отталкивая ими темноту, она бежала по коридору.
— Ради Бога, что с вами? Что случилось?
— Он там, — проговорила она, показав на дверь приемной, — и хочет меня убить.
Дверь отворилась, и появился Пьер в накинутом на плечи плаще, лицо его было еще бледнее, чем у жены. Она испустила второй вопль, разорвавший тишину в доме страхом и ужасом, и упала в обморок. Пьер направился к чужаку и, чуть его не коснувшись, сказал: “И это — идиллия? Это и есть идиллия?”, потом повернулся к жене и с помощью Акима перенес ее в комнату, на кресло. В доме сверкали огни. Можно было подумать, что здесь происходит какое-то ночное празднество, в котором гроздья огней разбрасывали от пола до потолка распустившиеся цветы. Нечто исполненное чистоты превратило саму тишину в призванную освятить юные души церемонию. Аким медленно вышел из комнаты, но, перед тем как затворить за собой дверь, все же сказал Пьеру:
— Идиллия? Ну да, а почему бы и нет?
На следующий день он спозаранку отправился все к тому же торговцу, чтобы перерисовать заинтересовавшие его чертежи. Поутру воздух в городе был легким и как бы обновленным ночью; и тем не менее за ночь из-под земли пробился какой-то яд, куда более зловонный, нежели болотная затхлость трясин. Торговец радостно его приветствовал.
— А у меня для вас новая книга, — сказал он. — Здесь вы найдете большую карту со множеством деталей. Она очень дорогая.
Аким, как смог, зарисовал самые сложные участки пути — в остальном довольно и того, что он запомнил.