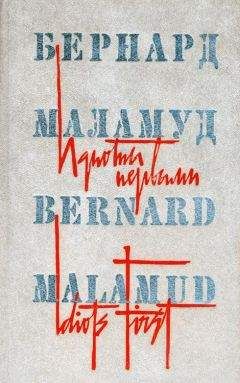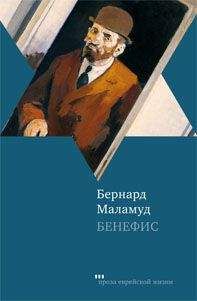Он заставил Абрамовича пробежать еще круг, а потом, сделав акробатический прыжок, вскочил на него и бешеным галопом умчался с манежа.
Позже он простучал своей жесткой костяшкой по черепу лошади, что, если она отколет еще что-нибудь в этом роде, он, Гольдберг, сам отведет Абрамовича на мыловарню.
ТАМ ТЕБЯ НА МЫЛО ПУСТЯТ…
А что останется, скормят собакам.
— Я же пошутил, хозяин, — оправдывался Абрамович.
— Ты мог сказать ответ, но не твое дело задавать вопрос.
Не в силах сдержать накопившуюся обиду, говорящая лошадь возразила:
— Я сделала это, чтобы почувствовать себя свободной.
При этих словах Гольдберг, размахнувшись своей страшной тростью, с силой хлестнул лошадь по шее. У Абрамовича перехватило дыхание, он пошатнулся, но кровь не выступила.
— Сжалься, хозяин, — взмолился он, — не бей по старой ране.
Гольдберг не спеша отошел, помахивая тростью.
— Ты, мешок с потрохами, еще раз взбрыкнешь, и у меня будет куртка из лошадиной шкуры с меховым воротником, гул, гун, гик, гонк. — В углах его рта пузырилась слюна.
Яснее не скажешь.
Иногда мне чудится, что я бесплотен, как сама мысль, но нет, куда там, стою в вонючем стойле, копыта увязают в желтом навозе. Я совсем старик, сам себе противен и, перемалывая зубами жесткую солому в пенящуюся жвачку, чувствую, как неприятно пахнет изо рта. А в это время Гольдберг курит сигару, уставившись в телевизор. Он не жалеет для меня корма, конечно, если считать, что солома годится в пищу, но целую неделю не убирался в стойле. Такому типу ничего не стоит и лошадь заездить.
Каждый день утром и вечером они выходят на манеж, Гольдберг пребывает в прекрасном расположении духа, тысячи зрителей надрывают себе от смеха животы, а Абрамовичу снится, что наконец-то он на воле. Странные это были сны, если вообще их можно назвать снами. Он не ведает, что они значат и откуда приходят к нему. Может быть, это дают о себе знать тайные мысли о свободе или неосознанное презрение к самому себе? Тешишь себя фантазиями о несбыточном? Но так или иначе, кто знает, что может сниться говорящей лошади? Гольдберг виду не подает, что проведал, какие чудеса творятся с его лошадью, но, как подозревает Абрамович, он наверняка многое знает, только умело скрывает, и, очнувшись на куче навоза и грязной соломы от своих опасных видений, лошадь прислушивается к сонному бормотанию глухонемого хозяина.
Абрамовичу снится, а может быть, грезится, как бы он жил, если бы выпала ему другая судьба и был бы он лошадью, которая не умеет разговаривать, не умеет размышлять, а живет себе, довольствуясь уделом бессловесной твари. Вот она везет по проселочной дороге тележку, груженную золотистыми яблоками. По обеим сторонам дороги белые березы, а за ними простираются бескрайние зеленые луга в ковре полевых цветов. Будь он такой лошадью, его, верно, выпускали бы пастись на этих лугах. Снились ему и другие сны, захватывающие, полные событий, он видел себя скаковой лошадью на бегах, вот он в шорах несется во весь опор, только комья грязи отлетают от копыт, обгоняет всех, рывок у самого финиша, и он приходит первым; разумеется, жокеем у него не Гольдберг. Жокея вообще нет, свалился по дороге.
Можно, конечно, и не быть скаковой лошадью, если исходить из реального положения вещей. Пусть Абрамович остается говорящей лошадью, но выступает он не в цирке, а в театре, каждый вечер выходит на сцену и декламирует стихи. Зал полон, все охают и ахают, что за чудесные стихи читает эта удивительная лошадь.
Иногда он воображает себя совершенно свободным «человеком» неопределенной наружности, с неясными чертами лица, врачом или адвокатом, бескорыстно помогающим бедным. Неплохо было бы вот так, с пользой, прожить жизнь.
Но даже в моих снах, называйте их как угодно, меня преследует Гольдберг. Он как бы говорит моим голосом:
Во-первых, ты не какая-нибудь бессловесная кляча, а говорящая лошадь и больше никто. Уверяю тебя, Абрамович, я не против того, что ты умеешь говорить, но я не позволю тебе нести всякий вздор и нарушать правила.
Теперь о скаковой лошади. Посмотри-ка на себя хорошенько — ты же весь осел на задние ноги, обрюзг, дряблый живот отвис, потемневшая шкура задубела и не блестит, сколько тебя ни чеши и ни скреби, две пары волосатых, толстых, кривых ног да пара подслеповатых косых глаз. Так что выкинь из головы всю эту чушь, если не хочешь выставить себя на посмешище.
Что же до стихов, то кто станет слушать, как лошадь читает стихи? Разве что птицы.
Наконец, о последнем сне или как это там называется, в общем, тебе не дает покоя то, что ты якобы можешь стать врачом или адвокатом. И думать об этом забудь, ты живешь в другом мире. Лошадь останется лошадью, хотя бы она и умела говорить. И не равняй себя с людьми. Понимаешь, что я имею в виду? Уж если родился лошадью, значит, так тебе на роду написано. И мой тебе совет, брось умничать, Абрамович. Не старайся знать все, так и спятить можно. Никто всего не знает; мир иначе устроен. Соблюдай правила игры. Не раскачивай лодку. Не делай из меня дурака, я поумнее тебя. Это у меня от природы. Нам волей-неволей приходится быть тем, кем мы появились на свет, хотя это и жестоко по отношению к нам обоим. Но таков порядок вещей. Все идет по определенным законам, даже если кое-кому и трудно с этим смириться. Закон есть закон, и не тебе менять то, что не тобой заведено. Такова связь вещей. Все мы связаны между собой, Абрамович, никуда от этого не деться. Если тебе так будет легче, признаюсь, я без тебя не проживу, но и тебе не позволю обойтись без меня. Мне нужно зарабатывать на хлеб насущный, ты, говорящая лошадь, принадлежишь мне, я на тебе делаю деньги, но ведь я же и забочусь о тебе, кормлю и пою. Я не раз говорил, но ты не хочешь слушать, подлинная свобода в том, чтобы осознать это и не тратить силы на борьбу с правилами; ввяжешься в это, жизнь пройдет впустую. Ты всего-навсего говорящая лошадь, но таких лошадей, уверяю тебя, по пальцам можно пересчитать. И будь у тебя, Абрамович, побольше умишка, ты бы жил припеваючи, а не терзал себя. Не порть наш номер, если хочешь себе добра.
Что же касается твоего желтого дерьма, то если ты будешь вести себя как положено и не болтать лишнего, то завтра у тебя уберут, а я сам вымою тебя из шланга теплой водой. Поверь мне, нет ничего лучше чистоты.
Так он издевался надо мной во сне, хотя мне уже кажется, что я почти не сплю последнее время.
На короткие расстояния из одного городка в другой цирк переезжает в своих фургонах. Их везут другие лошади, но меня Гольдберг бережет, и это вновь наводит на тревожные размышления. Когда мы едем далеко в большие города, нас грузят в цирковой поезд, раскрашенный белыми и красными полосами. Мое стойло в товарном вагоне по соседству с обычными, не умеющими разговаривать лошадьми. Гривы у них красиво заплетены, хвосты фигурно подстрижены, они выступают в номере с наездником без седла. Мы не проявляем особого интереса друг к другу. Если они вообще способны думать, то им скорей всего кажется, что говорящая лошадь чересчур много о себе понимает. Сами они только и делают, что едят, льют и кладут кучи. Ни единым словом между собой не перемолвятся. И ни единой мысли, хорошей или дурной, не промелькнет в их головах.
После больших переездов в цирке обычно бывает выходной, представления в этот день не дают, а когда мы не работаем утром и вечером, Гольдберг впадает в тоску, ходит мрачнее тучи. В такой день он с утра не расстается с бутылкой и выстукивает мне морзянкой разные колкости и угрозы.
— Абрамович, ты слишком много думаешь. Что тебе неймется? Во-первых, мысли в тебе не задерживаются, а во-вторых, в твоей голове пусто, — значит, и мысли у тебя пустые. В общем, нечего тебе задаваться. Ну-ка, скажи мне, что у тебя сейчас на уме?
— Я думаю, какие новые ответы и вопросы вставить в наш номер, хозяин.
— Это еще зачем? Номер и без того длинный.
Если бы он знал, какие вопросы терзают меня, но не дай Бог…
Как только начинаешь задавать вопросы, один цепляется за другой, и конца этому нет. А вдруг я твержу один и тот же вопрос, но на разные лады? Я все хочу понять, почему мне ни о чем нельзя спрашивать эту неотесанную деревенщину. Но я раскусил Гольдберга, он боится вопросов, боится, что его разоблачат, выведут перед всеми на чистую воду. Значит, его можно призвать к ответу за все делишки. Как бы там ни было, у Гольдберга темное прошлое, он боится проговориться мне, хотя иной раз и намекает на что-то. Но стоит мне заикнуться о моем прошлом, как он твердит одно: забудь об этом. Думай только о будущем. О каком будущем? С другой стороны, Гольдберг может умышленно напускать туману, ведь Абрамович пытливый по натуре, и, несмотря на запреты Гольдберга, он не перестает задаваться вопросами, сопоставляет одно с другим и наконец понимает, — упоительная мысль! — что знает больше, чем положено лошади, даже говорящей, и следовательно, все это доказывает, что он точно не лошадь. По крайней мере, не родился ею.