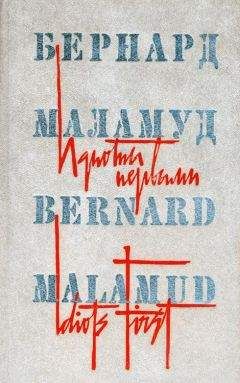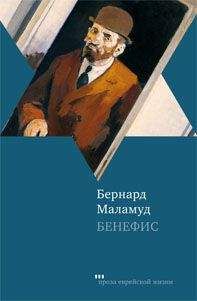В заключение Абрамович прокричал в зал:
— Я тоже человек, меня засунули в лошадь! Есть среди присутствующих врач?
Гробовое молчание.
— Может быть, чародей?
Снова молчание, только нервный смешок пробежал по рядам.
Тогда Абрамович произнес страстную речь о всеобщей свободе. Он говорил до хрипоты и закончил, как обычно, обращением к зрителям:
— Помогите мне вернуть мой истинный облик. Ведь я не тот, каким вы видите меня, я тот, кем я хочу стать. А хочу я стать тем, кто я есть на самом деле, — человеком.
В конце номера многие зрители со слезами на глазах поднялись со своих мест, и оркестр сыграл «Звездное знамя».
Гольдберг, дремавший на куче опилок, пока Абрамович исполнял свою сольную партию, проснулся как раз вовремя, чтобы раскланяться вместе с ним. Позднее по настоятельному совету нового директора цирка он отказался от старого названия номера «Спроси что полегче», придумав новое — «Варьете Гольдберга». И долго плакал неизвестно почему.
После того как столь страстный, столь вдохновенный крик о помощи не был никем услышан, Абрамович в отчаянии бился головой о дверцы стойла, пока из ноздрей не закапала кровь в мешок с кормом. Он подумал: ну и пусть, захлебнусь кровью. Гольдберг нашел его в глубоком обмороке на грязной соломе и ароматическими солями привел в чувство. Потом он перевязал ему нос и стал по-отечески увещевать.
— Вот ты и сел в лужу, — стучал он широким плоским пальцем, — но могло быть и хуже. Послушай меня, оставайся говорящей лошадью, так оно лучше.
— Сделай меня или человеком, или обыкновенной лошадью, — умолял Абрамович. — Это в твоей власти, Гольдберг.
— Тебе досталась чужая роль, приятель.
— Почему ты всегда лжешь?
— А почему ты вечно лезешь со своими вопросами? Это вообще не твоего ума дело.
— Я спрашиваю, потому что существую. И хочу быть свободным.
— Ну-ка ответь мне, кто свободен? — насмешливо спросил Гольдберг.
— В таком случае, — сказал Абрамович, — что же делать?
НЕ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСОВ, Я ПРЕДУПРЕЖДАЛ ТЕБЯ.
Он пригрозил, что ударит по носу. Опять пошла кровь.
В тот же день Абрамович объявил голодовку и продержался почти неделю. Однако Гольдберг сурово предупредил, что будет кормить его искусственно, вставит толстые резиновые трубки в обе ноздри, и пришлось голодовку прекратить. При мысли об этом Абрамович просто задыхался от досады. Номер снова стал таким, как прежде, и хозяин вернул ему старое название «Спроси что полегче». Когда сезон кончился, цирк отправился на юг, Абрамовича вместе с другими лошадьми впрягли в фургоны, и он брел в облаке пыли.
И все-таки мои мысли никому у меня не отнять.
Как-то раз погожей осенью, сменившей долгое изнурительное лето, Гольдберг, вымыв свои большие ноги в раковине на кухне, повесил вонючие носки сушиться на перегородке в стойле Абрамовича, а потом сел перед телевизором смотреть передачу по астрономии. Чтобы лучше видеть, он поставил на цветной телевизор горящую свечу. Но по рассеянности Гольдберг забыл закрыть дверцы стойла, и Абрамович, махнув через три ступеньки, минуя захламленную кухню, проник в дом, глаза его сверкали. Наткнувшись на Гольдберга, благоговейно созерцающего вселенную на экране телевизора, он с гневным ржанием отступил назад, чтобы обрушить удар копыт на голову хозяина. Гольдберг, заметив его боковым зрением, вскочил, готовый к защите. Быстро прыгнув на стул, он, хрюкнув, ухватил Абрамовича за его большие уши и потянул, будто намереваясь приподнять его, и тут голова вместе с шеей отделилась от туловища в том месте, где был старый шрам, и осталась в руках у Гольдберга. В дыре из зловонного кровавого месива показалась бледная голова человека. Лет сорока, в мутном пенсне, с напряженным взглядом темных глаз и черными усами. Высвободив руки, он изо всех сил вцепился в толстую шею Гольдберга. Они боролись, сплетаясь в жестокой схватке, и Абрамович судорожным усилием медленно вытягивал себя из лошадиного чрева, пока не освободился до пупка. В тот же миг ослабли судорожные тиски, и Гольдберг исчез, хотя на ярко светящемся экране еще продолжался урок астрономии. Впоследствии Абрамович пытался осторожно выведать, куда он подевался, но этого не знал никто.
Покинув цирк, Абрамович легким галопом пересек луг, поросший мягкой травой, и скрылся в сумраке леса, вольный кентавр.
У ворот стоит Тедди и держит в руке письмо.
Каждую неделю по воскресеньям Ньюмен сидел с отцом на белой скамье в больничной палате перед раскрытой дверью. Сын привез ананасовый торт, но старик не притронулся к нему.
За два с половиной часа, что он провел у отца, Ньюмен дважды спрашивал:
— Приезжать мне в следующее воскресенье или, может, не надо? Хочешь, пропустим один выходной?
Старик не отвечал. Молчание могло означать либо да, либо нет. Если от него пытались добиться, что же именно, он начинал плакать.
— Ладно, приеду через неделю. Если тебе вдруг захочется побыть одному в воскресенье, дай мне знать. Мне бы тоже не мешало отдохнуть.
Старик молчал. Но вот губы его зашевелились, и после паузы он произнес:
— Твоя мать никогда не разговаривала со мной так грубо. И дохлых цыплят не любила оставлять в ванне. Когда она навестит меня?
— Папа, она умерла еще до того, как ты заболел и пытался наложить на себя руки. Постарайся запомнить.
— Не надо, я все равно не поверю, — ответил отец, и Ньюмен поднялся, пора было на станцию, откуда он возвращался в Нью-Йорк поездом железнодорожных линий Лонг-Айленда.
На прощанье он сказал: «Поправляйся, папа» — и услышал в ответ:
— Не говори со мной как с больным. Я уже здоров.
Каждое воскресенье с того дня, как, оставив отца в палате 12 корпуса Б, Ньюмен впервые пересек больничный двор, всю весну и засушливое лето около чугунной решетки ворот, изогнувшихся аркой между двух кирпичных столбов, под высоким раскидистым дубом, тень от которого падала на отсыревшую стену, он встречал Тедди. Тот стоял и держал в руке письмо. Ньюмен мог бы выйти через главный вход корпуса Б, но отсюда было ближе до железнодорожной станции. Для посетителей ворота открывались только по воскресеньям.
Тедди толстый и смирный, на нем мешковатое серое больничное одеяние и тряпичные шлепанцы. Ему за пятьдесят, и, наверное, не меньше его письму. Тедди всегда держал его так, словно не расставался целую вечность с пухлым замусоленным голубым конвертом. Письмо не запечатано, в нем четыре листка кремовой бумаги — совершенно чистых. Увидев эти листочки первый раз, Ньюмен вернул конверт Тедди, и сторож в зеленой форме открыл ему ворота. Иногда у входа толклись другие пациенты, они норовили пройти вместе с Ньюменом, но сторож их не пускал.
— Отправь мое письмо, — просил Тедди каждое воскресенье.
И протягивал Ньюмену замусоленный конверт. Проще было, не отказывая сразу, взять письмо, а потом вернуть.
Почтовый ящик висел на невысоком бетонном столбе за чугунными воротами на другой стороне улицы неподалеку от дуба. Тедди время от времени делал боксерский выпад правой в ту сторону. Раньше столб был красным, потом его покрасили в голубой цвет. В каждом отделении в кабинете врача был почтовый ящик. Ньюмен напомнил об этом Тедди, но он сказал, что не хочет, чтобы врач читал его письмо.
— Если отнести письмо в кабинет, там прочтут.
— Врач обязан, это его работа, — возразил Ньюмен.
— Но я тут ни при чем, — сказал Тедди. — Почему ты не хочешь отправить мое письмо? Какая тебе разница?
— Нечего там отправлять.
— Это по-твоему так.
Массивная голова Тедди сидела на короткой загорелой шее, жесткие с проседью волосы подстрижены коротким бобриком. Один его серый глаз налит кровью, а второй затянут бельмом. Разговаривая с Ньюменом, Тедди устремлял взгляд вдаль, поверх его головы или через плечо. Ньюмен заметил, что он даже искоса не следил за конвертом, когда тот на мгновение переходил в руки Ньюмена. Время от времени он указывал куда-то коротким пальцем, но ничего не говорил. И так же молча приподнимался на цыпочки. Сторож не вмешивался, когда по воскресеньям Тедди приставал к Ньюмену, уговаривая отправить письмо.
Ньюмен вернул Тедди конверт.
— Зря ты так, — сказал Тедди. И добавил — Меня гулять пускают. Я почти в норме. Я на Гаудал-канале воевал.
Ньюмен ответил, что знает об этом.
— А где ты воевал?
— Пока нигде.
— Почему ты не хочешь отправить мое письмо?
— Пусть доктор прочтет его для твоего же блага.
— Вот здорово. — Через плечо Ньюмена Тедди уставился на почтовый ящик.
— Письмо без адреса, и марки нет.
— Наклей марку. Мне не продадут одну за три пенса или три по пенсу.
— Теперь нужно восемь пенсов. Я наклею марку, если ты напишешь адрес на конверте.