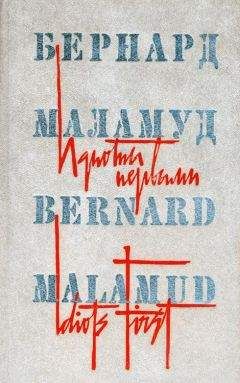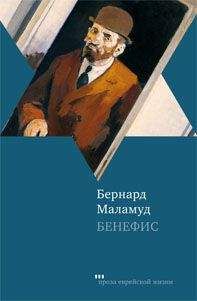Незнакомец, улыбаясь, протянул руку.
— Зускинд, — сказал он, — Шимон Зускинд.
— Артур Фидельман. — Переложив портфель из правой руки в левую и придерживая ногой поставленный на землю чемодан, он пожал руку Зускинду.
Носильщик в синем комбинезоне мимоходом взглянул на чемодан Фидельмана, потом на него и отошел в сторону.
Нарочно или нечаянно, но Зускинд потирал руки, словно чего-то дожидался.
— Parla italiano?[51]
— Говорю, но с трудом, хотя читаю бегло. Можно сказать, мне нужна практика.
— Значит, идиш?
— Мне легче всего выражать мысли по-английски.
— По-английски так по-английски. — Зускинд заговорил по-английски с легким великобританским акцентом. — Но я сразу угадал, что вы еврей, — добавил он, — только положил на вас глаз — все стало ясно.
Фидельман предпочел пренебречь этим замечанием.
— Где вы научились английскому? — спросил он.
— В Израиле.
Фидельман заинтересовался:
— Вы там живете?
— Раньше жил, а теперь нет, — уклончиво сказал Зускинд. У него сразу стал скучающий вид.
— Как так?
Зускинд передернул плечом.
— Для моего слабого здоровья там слишком тяжелая работа. А потом, это вечное напряжение.
Фидельман понимающе кивнул.
— И кроме того, от этой пустыни у меня запор. В Риме у меня на сердце легче.
— Еврейский беженец, и откуда — из Израиля! — добродушно пошутил Фидельман.
— Я вечный беженец, — невесело вздохнул Зускинд.
По нему не скажешь, что у него легко на сердце.
— Откуда же вы еще бежали, разрешите узнать?
— Как это — откуда еще? Из Германии, из Венгрии, из Польши — вам этого мало?
— Ну, это, наверно, было давно. — Фидельман только сейчас заметил седину в волосах у беженца. — Пожалуй, пора идти, — сказал он и поднял чемодан. Два носильщика нерешительно остановились неподалеку.
Но Зускинд хотел услужить.
— А гостиница у вас есть?
— Да, давно выбрал и зарезервировал.
— Вы сюда надолго?
Какое ему дело? Но Фидельман вежливо ответил:
— На две недели — в Риме, дальше, до конца года, — во Флоренцию, с поездками в Сиену, Ассизи, Падую, а может быть, и в Венецию.
— Но вам нужен гид в Риме?
— А разве вы гид?
— Почему бы и нет?
— Спасибо, — сказал Фидельман, — я сам разберусь, похожу по музеям, библиотекам и так далее.
Зускинд насторожился:
— Вы что, профессор?
Фидельман невольно покраснел:
— Ну, не совсем, — скорее, так сказать, студент.
— А из какого института?
Фидельман откашлялся.
— Видите ли, я, так сказать, вечный студент. Вроде чеховского Трофимова. Если есть чему поучиться — я учусь.
— Так у вас есть задание? — настаивал Зускинд. — Получаете стипендию, да?
— Какая там стипендия! Деньги мне нелегко достались. Я долго работал, копил, чтобы на год уехать в Италию. Во всем себе отказывал. Да, вы спросили про задание. Я пишу о художнике Джотто. Это был один из самых…
— Можете мне про Джотто не рассказывать, — перебил его Зускинд с ухмылкой.
— Вы изучали его творчество?
— А кто его не знает!
— Как интересно! — сказал Фидельман, скрывая раздражение. — Откуда вы его знаете?
— А вы откуда?
— Я посвятил немало времени изучению его творчества.
— Ну а я его тоже знаю.
Надо от него избавиться, пока не поздно, подумал Фидельман. Он поставил чемодан, пошарил в кожаном кошельке, где держал мелочь. Те два носильщика с любопытством следили за ним, один вытащил из кармана сандвич, завернутый в газету, развернул и стал есть.
— Это вам, — сказал Фидельман.
Зускинд даже не взглянул на монету, опуская ее в карман штанов. Носильщики ушли.
Странные у него повадки, у этого беженца: застыл, словно деревянный индеец у табачной лавки, но видно, что вот-вот готов сорваться с места.
— Я вижу — у вас есть багаж, — сказал Зускинд неопределенно, — так, может, в этом багаже найдется лишний костюмчик? Мне бы он пригодился.
Наконец-то все выложил, подумал Фидельман с неудовольствием, но сдержался.
— У меня есть одна-единственная смена, кроме того, что на мне. Вы очень ошибаетесь, мистер Зускинд. Я не богач. Больше того, я бедный человек. То, что на мне новое платье, ничего не значит, не обольщайтесь. Я за этот костюм еще должен своей сестре.
Зускинд посмотрел на свои короткие, потертые и поношенные штаны:
— Сколько лет я не имел нового костюма. Когда я бежал из Германии, вся моя одежда развалилась на куски. И в один прекрасный день я очутился совсем голый.
— Разве тут нет благотворительных организаций, которые могли бы вам помочь? Наверно, здешняя еврейская община помогает беженцам.
— Так эти евреи дают мне то, что они хотят, а не то, что я хочу, — с горечью сказал Зускинд. — И что они мне предлагают — обратный билет в Израиль!
— Почему вы не соглашаетесь?
— Я вам уже сказал: тут мне свободнее.
— Свобода — понятие относительное.
— Вы мне еще будете объяснять про свободу!
Все-то он знает, подумал Фидельман.
— Хорошо, тут вам свободнее, — сказал он, — но как вы живете?
В ответ Зускинд только хрипло закашлялся.
Фидельман хотел было еще что-то сказать насчет свободы, но удержался. Боже мой, да он весь день не отвяжется, если не принять мер.
— Пожалуй, мне пора в отель, — сказал он, наклоняясь за чемоданом.
Зускинд тронул его за плечо, и, когда Фидельман нетерпеливо выпрямился, Зускинд сунул ему под нос те полдоллара, что он ему выдал.
— Мы на этом оба теряем деньги.
— То есть как это?
— Сегодня дают шестьсот двадцать три лиры за доллар, но за серебро дают всего пятьсот.
— Хорошо, дайте сюда, я вам дам целый доллар. — И Фидельман быстро достал хрустящий доллар из бумажника и отдал его беженцу.
— И это все? — вздохнул Зускинд.
— Да, все! — решительно сказал Фидельман.
— Может, хотите посмотреть термы Диоклетиана? Там есть симпатичные римские гробики. За один доллар я вас проведу.
— Нет, спасибо! — И, кивнув на прощанье, Фидельман поднял чемодан и подтащил к обочине.
Откуда-то вынырнул носильщик, и Фидельман, поколебавшись, дал ему донести чемодан через площадь, до стоянки маленьких темно-зеленых такси. Носильщик предложил донести и портфель, но Фидельман не выпускал его из рук. Он дал шоферу адрес отеля, и такси дернуло и покатилось. Наконец-то, — Фидельман облегченно вздохнул. Он увидел, что Зускинд исчез. Пронесло, подумал он. Но по дороге в отель ему все казалось, что беженец, согнувшись в три погибели, примостился сзади, на запасном колесе. Однако взглянуть назад он не решился.
Фидельман заранее заказал себе номер в недорогой гостинице, недалеко от вокзала, рядом с очень удобной конечной остановкой автобусов. Сразу, по укоренившейся привычке, он выработал жесткое расписание. Он всегда боялся терять время, как будто в этом был единственный его талант — что, разумеется, не соответствовало истине, — Фидельман знал, что он ко всему еще и очень честолюбив. Вскоре он распределил время так, чтобы работать как можно больше. По утрам он обычно ходил в итальянские библиотеки, просматривал каталоги и архивы, читал при скверном освещении и делал подробные записи. После второго завтрака он часок дремал, потом часам к четырем, когда вновь открывались церкви и музеи, он торопился туда со списком картин и фресок, которые ему надо было посмотреть. Хотя он и очень стремился во Флоренцию, его немного огорчало, что не все в Риме удастся посмотреть, Фидельман дал себе слово непременно вернуться сюда, если позволят финансы, может быть, к весне, и посмотреть все, что хотелось.
К вечеру он старался передохнуть, успокоить нервы. Обедал он поздно, как все римляне, с удовольствием выпивал пол-литра белого вина, выкуривал сигарету. Он любил погулять после обеда, особенно по старинным кварталам, у Тибра. Где-то он прочел, что там под ногами развалины древнего Рима. Его вдохновляло, что он, Артур Фидельман, уроженец Бронкса, ходит по всем этим историческим местам. Таинственная штука — история, и воспоминание о неведомых событиях в чем-то лежит на тебе тяжелым грузом, а в чем-то доставляет ощутимую радость. Оно тебя и возносит и угнетает — Фидельман не понимал, чем именно, и знал только, что его уносило в такие дебри, из которых ему не выбраться. Может быть, творческому человеку, художнику, такие переживания шли на пользу, но критику они не нужны. Критик, думал Фидельман, должен жить черным хлебом фактов. Он без конца бродил по извилистым берегам реки, глядя в усеянное звездами небо. Однажды, просидев несколько дней в музее Ватикана, он увидел сонмы ангелов — синих, белых, золотых, тающих в небесах. Бог мой, подумал Фидельман, нельзя так переутомлять глаза. Но, вернувшись к себе, он иногда писал до полуночи.