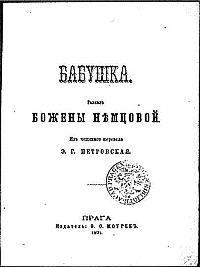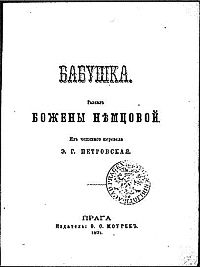Бабушка успокоилась: все устроилось по ее желанию. Только одна забота еще тяготила ее: письмо к Иоганке. Терезка могла бы его написать, но тогда письмо было бы не такое, какое бабушке хотелось написать. Поэтому она в один прекрасный день позвала Барунку к себе в комнату, заперла дверь, и показывая на стол, где были приготовлены лист бумаги, чернила и перо, сказала:
— Сядь-ка Барунка, будешь писать письмо тете Иоганке.
Барунка села, бабушка поместилась возле нее так, чтоб видеть бумагу, и начала диктовать: «Слава тебе Господи Иисусе Христе!»
— Но бабушка, так не начинают письма! — заметила Барунка, — наверху нужно написать: милая Иоганка!
— К чему это? Твой прадедушка и твой дедушка всегда так писали, и я детям не писала иначе. Ну, начинай же: «Слава тебе Господи Иисусе Христе! Сто раз приветствую тебя и целую, милая Иоганка, и посылаю тебе известие, что я слава Богу здорова. Немножко, правда, меня мучит кашель, но это неудивительно, ведь я уж доживаю восьмой десяток. Это порядочный век, милая дочка, и есть за что поблагодарить Бога, если кто-нибудь проживает его так здорово, как я: слышу хорошо, вижу настолько, что могла бы штопать, если бы мне этого не делала Барунка. И ногами я еще довольно крепка. Надеюсь, что и тебя, и Доротку это письмо застанет здоровыми. Дядя болен, как я узнала из твоего письма; мне жаль его, но я надеюсь, что болезнь его не будет продолжительна. Он часто прихварывает, а ведь говорят: скрипучее дерево долго скрипит. Ты мне пишешь также, что хочешь выйти замуж и ждешь моего согласия. Милая дочь моя, что же могу я тебе сказать, когда сердце твое сделало уже выбор? Только бы Бог дал тебе счастия и благословил вас обоих, чтоб вы жили во славу Божию и были полезны свету. Зачем мне препятствовать тебе, если Иржик хороший человек и ты его любишь: не я буду жить с ним, а ты. Впрочем, я думала, что ты по крайней мере выберешь чеха: свой к своему все как-то лучше подходит; но тебе верно уж судьба такая, и я не возбраняю тебе. Мы все дети одного отца, одна мать кормит нас, и мы должны любить друг друга, хотя бы и не были земляками. Поклонись Иржику, и если Бог вам даст здоровья и вы устроите свое хозяйство, приезжайте посмотреть на нас, если не будет препятствий. Дети тоже ждут тетушку. Благослови вас всех Господи и дай вам здоровья. Прощай!» Барунка должна была прочитать бабушке еще раз письмо, потом вместе сложили его, запечатали, и бабушка спрятала его в ящик, чтоб отнести самой на почту, когда пойдет в церковь.
За несколько дней до Екатеринина дня вечером в гостинице собралась молодежь, девушки и парни. Весь дом блестел как внутри, так и снаружи; около дверей висели венки из хвоя, за каждым образом в комнате торчала зеленая ветка, занавески на окнах были белы как снег. Длинный липовый стол, покрытый белою скатертью, был забросан розмарином, белыми и красными лентами; вокруг стола сидели дружички, как будто кто-то насадил роз и гвоздичек. Они сошлись вить венок Кристле, молодой невесте, которая была красивее их всех и сидела между ними в переднем углу. Она была избавлена от всех домашних работ и была отдана под надзор тлампача[123] и свахи, которые честно выполняли свою должность; тлампачом был вожак богомольцев, Мартинец, свахой бабушка. Она не могла отказать в этом Кристле, хотя и неохотно являлась в большое общество. Пани-мама исправляла должность старой хозяйки, у которой болели ноги, а жена Кудрны и Цилка прислуживали. Бабушка сидела также между дружичками, и хотя ей нечего было ни вить, ни вязать, но к ней беспрестанно обращались за помощью и за советом. Невеста навязывала ленту на хорошенькую розмариновую ветку для дружки и тлампача; младшая дружичка должна была свить веночек для невесты, старшая для жениха, а остальные дружички каждая своему кавалеру. Оставшийся розмарин был употреблен на пучочки с бантом для гостей; даже для лошадей, долженствовавших везти невесту, готовились украшения на голову и на сбрую, из розмарина и лент.
Глаза невесты искрились любовью и радостью, когда взгляд ее обращался к красивому жениху, ходившему около стола с остальными парнями, из которых каждый имел больше свободы поговорить с любимою девушкой, чем он со своею невестой; он только минутами печально посматривал на нее. Невесте прислуживал дружка, а жених должен был заботиться о старшей дружичке. Всем позволялось веселиться, шалить, петь, шутить, — а всего больше шуток ожидали конечно, от тлампача, — только невеста и жених не смели слишком выказывать свою радость. Кристла мало говорила, не поднимая глаз от стола, усыпанного розмарином. Когда же дружички стали вить свадебные веночки и запели:
«Где ты, голубка, летала,
Ах, летала,
Что свои белые перья замарала,
Ах, замарала?»
то Кристла закрыла лицо белым фартуком и принялась плакать. Жених почти со страхом посмотрел на нее и спросил тлампача: — О чем она так плачет?
— Сам знаешь, женишок, — отвечал ему тот весело; — радость и горе спят на одном ложе, поэтому часто будят друг друга. Оставь, сегодня плач, а завтра радость!
После такого начала песнь следовала за песнью: пелись похвалы молодости, красоте, любви и холостой жизни молодецкой; потом парни и девушки запели о том, как хороша семейная жизнь, когда оба любят друг друга как горленки, когда живут согласно как зернышки в одном колосе. С их пением смешивался постоянно комический напев тлампача. Когда же они запели о семейном согласии, он запел свое собственное соло, говоря при том, что он споет им совершенно новую песенку, «самим мною на свет выданную, во тьме напечатанную», добавил он.
— Ну, пойте: — закричали парни: — послушаем, что-то вы умеете!
Тлампач вышел на середину комнаты и комически запел с интонацией, настолько шутливою на свадьбе, насколько она была серьезна на богомольях:
О, ангельское веселие,
Нет ничего выше супружеского согласия!
Скажу ли: свари гороху!
Она сварит кашу;
Скажу ли о мясе.
Она приготовит мучное!
О, ангельское весилие,
Нет ничего выше супружеского согласия!
— Изломанного талера не дадим за песенку и с певцом! — закричали девушки и тотчас запели сами, чтобы помешать парням, желавшим слушать продолжение. При постоянном пении и шуточках связались букеты, свились веночки, девушки встали из-за стола, взялись за руки и кружась, запели:
Уж все сделано,
Уж все готово,
Калачи напечены,
Венки свиты!
В то же самое время в дверях показалась пани-мама, неся с остальною домашнею прислугой полные руки кушанья. Пан-отец и дружка принесли питье. Опять все сели за стол, занятый уже не розмарином, а вареными и печеными яствами. Кавалеры уселись возле дружичек, жених поместился между старшею дружичкой и свахой, а невеста села между дружкой и младшею дружичкой, которая ей накладывала и резала кушанье также, как старшая дружичка жениху. Тлампач постоянно прыгал вокруг стола, позволял дружичкам кормить и даже бранить себя, но они в свою очередь должны были прощать ему всякую шутку, хотя бы она и была немножко груба. Когда убрали со стола всю посуду, тлампач выставил на стол три миски в подарок невесте. В первой из них была пшеница, которую он дарил ей с желанием, чтоб она была плодородна, в другой была зола, смешанная с луковым семенем, которое невеста должна была отобрать, чтоб приучиться к «терпению», а третья миска была «тайная», вся закрытая. Невеста не должна была любопытствовать и должна была взять миску, не заглядывая на нее. Но кто же мог бы удержаться от соблазна? И Кристле любопытство не давало покоя. Когда никто не смотрел на нее, она тихонько приподняла белый платок, закрывавший миску и, ах, сидевший там воробей вспорхнул к потолку.
— Видишь ли, милая невестушка! — сказала бабушка, ударив ее по плечу: — так всегда бывает с любопытством. Человек готов умереть, лишь бы узнать, что от него скрыто, а как посмотрит под покрывало, так ничего и не поймает!
Молодежь не расходилась до поздней ночи, потому что после ужина еще танцевали. Жених с дружкою проводили сваху домой, напоминая при прощаньи, что завтра утром опять соберутся. Рано утром обитатели долины и Жернова были уже на ногах. Одни шли в церковь, другие собирались только к обеду и танцам, а оставшиеся дома не могли преодолеть желания посмотреть на свадьбу, о которой еще за несколько недель говорилось, что будет шумная, что невеста поедет в церковь на барских лошадях, что у нее на шее будут дорогие гранаты, да притом еще на ней будет белый вышитый фартук, шпензер из розовой тафты и платье облачного цвета. Все это было известно в Жернове может быть еще прежде, чем невеста об этом подумала. Они знали все подробно: много ли и какие кушанья будут на свадьбе, в каком порядке будут их подавать; сколько рубашек, сколько перин, какую посуду дают за невестой — все знали, как будто она им писала об этом. Не идти посмотреть на такую шумную свадьбу, не посмотреть, идет ли к невесте веночек, сколько слезок она прольет, как гости одеты, не посмотреть на все это было бы непростительным грехом. Ведь это составляло эпоху в их истории, это давало материал для разговоров по крайней мере на полгода, — как же пропустить такой случай?