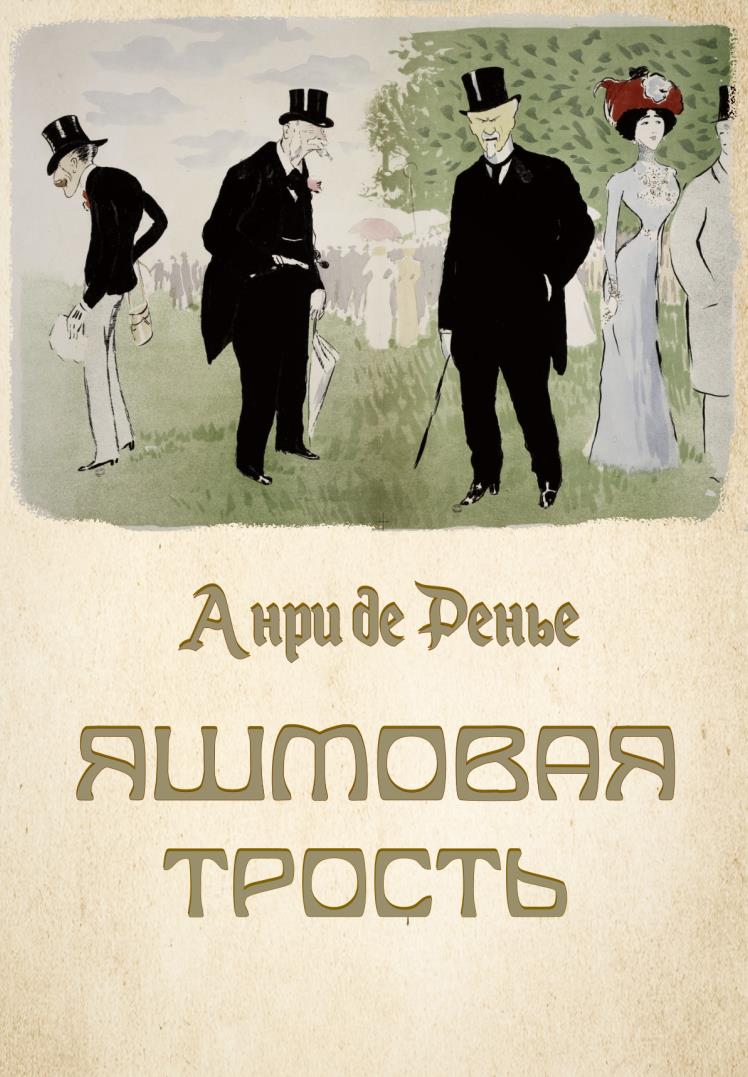вам, это то, что им я обязан приобретенным мною опытом и что они внушили мне принятое мною решение — отказаться от этой несбыточной мечты, для которой не создан человек, ибо я уверен, что самому сильному, как и самому смиренному, не суждено чувство высочайшей удовлетворенности, к которому мы тщетно стремимся, и потому лучше всего забыть об этой глупости.
Таков, о принц, результат моих исканий. Они убедили меня в том, что главная утеха человека и единственное прибежище его — вкусно есть и сладко спать. В лакомствах и в сне находит он самое верное удовлетворение. Вот почему мои пилюли пользуются удивительной славой. Они прелестны на вкус и способствуют долгому сну. Я сам, впрочем, никогда к ним не прибегаю, но я им признателен за то, что они, доставляя мне деньги, позволяют предаваться обоим моим любимым занятиям. Я прихожу каждый день и сижу несколько часов в этой лавке, после чего удаляюсь в прекрасный дом, который я выстроил себе в окрестностях Дамаска, где провожу свои досуги так, как уже сказал вам. У меня превосходный повар, и подушки моего дивана набиты тончайшим пухом. Если вы удостоите меня чести испробовать сегодня вечером и то и другое, счастье, которое они мне доставляют, увеличится от радости принять у себя брата багдадского халифа и от доказательства того, что вы не гневаетесь на бедного продавца иллюзий, сказавшего вам правду.
* * *
Когда принц Али возвратился в Багдад, он вручил халифу Акбару хорошую плетку, купленную им на дамасском базаре.
— Мне кажется, брат мой, что это один из секретов счастья, ибо они различны для каждого из нас. Испытайте силу этого талисмана на прекрасной Фатиме: быть может, он окажет хорошее действие; только не говорите ей, от кого вы его получили.
И принц Али, чтобы отдохнуть от трудного пути, отправился спать, предварительно полакомившись вкусным обедом и осушив кувшин ширазского вина цвета заходящего солнца.
ПОРТРЕТ ЛЮБВИ
Я не знал лично знаменитого Антуана Ватто из Валансьена, потому что его уже не было в живых, когда отец мой, честный суконщик, торговавший под вывеской «Золотое Платье», послал меня из Этампа в Париж для развития таланта, который я проявлял с детства к рисованию человеческих лиц и воспроизведению их с натуры. Такая склонность казалась счастливой этому славному человеку, и он не сомневался, что она мне поможет, рано или поздно, создать себе имя в искусстве. Он настолько гордился моими маленькими опытами, что показывал их всем посетителям, заходившим в лавку. Каждый при виде их выражал свое полнейшее удовольствие, и отец мой не меньше других. Но что его более всего побудило предложить мне променять метр на кисть, так это одобрение, которое проект его встретил со стороны г-на маркиза де Ла Геранжера.
У г-на де Ла Геранжера был неподалеку от Этампа прекрасный замок, славившийся в наших краях как красотою своих строений, так и приятностью садов и вод. Хотя это легко могло побудить его к чванству, г-н де Ла Геранжер оставался любезнейшим человеком в мире. Его богатство и знатность равняли его с виднейшими из дворян королевства, и он столь естественно почитал себя выше окружающих, что ему и в ум не приходило дать это кому-нибудь почувствовать. Поэтому он проявлял ко всем большую доброту. Когда г-н де Ла Геранжер приезжал в Этамп, он останавливал свою карету у дверей моего дяди, г-на Шеню, по профессии своей зеркальщика, или у дверей нашей лавки, и всякий раз г-н де Ла Геранжер не забывал спросить моего отца о моих успехах.
И вот настал день, когда успехи мои показались г-ну де Ла Геранжеру настолько значительными, что он посоветовал моему отцу отдать меня в ученье и предоставить мне возможность совершенствоваться. Так как в нашем городке не имелось для этого средств, г-н де Ла Геранжер уговорил моего отца послать меня в Париж. Ценитель искусства, он несколько раз прибегал к кисти г-на Давере, художника не без имени и лучшего из учеников покойного г-на Ватто. Г-н де Ла Геранжер предложил поместить меня к г-ну Давере. Мне было шестнадцать лет, и, значит, самая пора учиться. Г-н Давере согласился взять меня к себе. Он дал мне угол на чердаке, чтобы спать, и допустил меня в свою мастерскую.
Произведения г-на Давере не лишены были как искусства, так и грации. Г-н Давере писал со вкусом сцены изящных праздников в манере Ватто, от которого у него осталось несколько полотен, вызывавших его искреннее восхищение. Вскоре я стал разделять его чувства, внося в это всю пламенность юности. Рисунок г-на Ватто, краски г-на Ватто — только это и было у меня на уме. Я упражнялся в писании концертов среди природы и сельских собраний в стиле этого превосходного художника, которым вдохновлялся также и г-н Давере, позволявший мне работать на собственной его ниве и доверявший мне иногда выполнение какой-нибудь маленькой фигурки.
Г-н Давере был толстый человек, веселый и добрый. Его наружность и вкусы являли некоторый контраст сюжетам, которые он выбирал. Г-н Давере любил вкусный стол и хорошее вино, обильные обеды и долгие попойки. Такие наклонности, казалось, более располагали его к писанию фламандских веселых ярмарок и гульбищ, потому что он предпочитал наслаждения Рампоно радостям Волшебного Острова. Таким-то образом, и мне приходилось принимать участие в бутылочных утехах, которые он отнюдь не презирал. Эти пирушки имели для меня порою неприятные последствия, которые очень веселили г-на Давере. Я их выносил, потому что любил г-на Давере, который был моим учителем, и еще потому, что после кабачка он водил меня иногда в Комедию.
Г-н Давере был большим ее любителем. Фарсы и буффонады забавляли его, и он хохотал во все горло. Что до меня, то я решительно предпочитал им пьесы итальянских комедиантов. Там я получал полнейшее удовлетворение. Фигуры Арлекина и Жиля, Коломбины и Лелио доставляли мне бесконечное удовольствие. Я любил их пестрые костюмы, маски и гитары, прыжки и жесты. В них было что-то нежное и призрачное, напоминавшее мне картины моего милого Ватто. Зрелища эти навевали на меня сладостную и легкую мечтательность, которой охотно предавалась моя натура, немного склонная к пастушескому жанру.