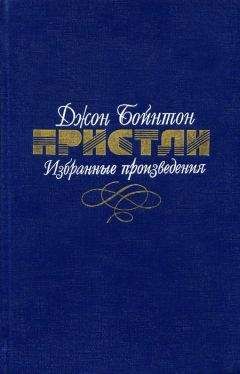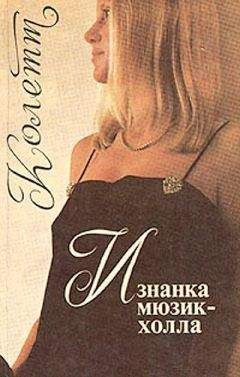Увидев, что я покидаю угол, Лили подозвала меня и представила такой высокой и худой даме, каких я никогда не видел. Это была леди Чернок, как Лили потом объяснила, вдова богатого текстильного фабриканта. У нее были широкие скулы, поблескивавшие над впадинами щек, а рот свело так, точно она жевала лимон; правда, смеясь, она широко его раскрывала, обнажая крупные желтые зубы. Одета она была очень элегантно и походила на участницу какого-нибудь французского декадентско-аристократического кружка, но говорила с ужасающим ланкаширским акцентом, а умом едва ли превосходила Филлис Робинсон. Пока мы беседовали с ней, Лили встала впереди меня, почти вплотную, заложила руку за спину и принялась ощупывать меня и щекотать, после чего я сказал, что нам с Сисси пора идти.
— У меня чертовски большой дом, с которым я не знаю, что делать, — сказала леди Чернок на прощанье. — Лили его знает, не правда ли, моя прелесть? Скажите ей, чтобы она привезла вас как-нибудь на уик-энд.
Сисси давно уже не терпелось уйти. Она была по горло сыта господами средних лет и Мергеном. Погода стояла хорошая, и мы решили вернуться в отель пешком. Она захмелела и потому всю дорогу держала меня под руку и прижималась.
— Я бы не пошла, но подумала, может, это меня развеселит. Но нет, какое с ними веселье. Я такая несчастная, Дик, милый. Ты скажешь, я всегда это говорю, — но тут совсем другое. Во-первых, это странное чувство. Оно у меня с самого начала поездки. Я надеялась, что с нами будут какие-нибудь славные, симпатичные люди и хотя бы одна-две женщины, с которыми можно будет поболтать, но их нет. Эта мисс Даффилд, что присматривает за собачками, — правда, чудные? — она еще туда-сюда, но какая-то точно неживая, измученная и до смерти боится не то своего братца, не то еще чего-то. А от Лили Фэррис и этого Мергена у меня мурашки начинают бегать. Дик, обещай мне, что не будешь с ними водиться. Ведь Ник их тоже не любит, ты знаешь.
— Не могу сказать, что они мне нравятся, Сисси. Но если я позволю дяде Нику решать за себя, мне не часто придется бывать в компаниях.
— Он смеется, когда я говорю ему про это свое странное чувство. А сам, с тех пор как мы в Ливерпуле, все больше сердится и раздражается — и не из-за дел и публики, тут все в порядке.
— У него не выходит трюк с двумя карликами…
— Вот и это еще. И с одним-то карликом не знаешь, как управиться, — Барни все время пристает; я ему тут надавала пощечин, когда мы остались вдвоем в темноте, — а что ж начнется, когда их будет двое?
— Может, будет и лучше, Сисси. Есть ведь карлики серьезные и умные; мы видели одного такого в Лондоне…
— Осторожно, Дик. — Она крепче уцепилась за меня. Вокруг нас, покачиваясь и горланя, толкались пьяные; некоторые распевали песни Лили и Мергена. Правда, виднелись и полицейские исполинского роста. Но все равно зевать по сторонам не приходилось. Тени оживали неожиданно и угрожающе.
— Как ты думаешь, Дик, он не завел в Лондоне другую женщину? — спросила она.
— Если и завел, то ничего мне об этом не говорил. Да он и не скажет. Но мне кажется, что нет.
— А я вижу, что я ему совсем не нужна — только для номера. Правда, он и теперь говорит; «Пошли, девочка!» — может, и сегодня скажет. Но что с того? Любая сойдет — кроме того фонарного столба, с которым ты разговаривал у Лили. Тут он, я думаю, спасует. — Она хихикнула, потом снова стала серьезной. — Не связывайся с Лили Фэррис, как с Джули Блейн. Она сучка еще почище той, держу пари. А как там милая малютка Нэнси Эллис — ты ничего не знаешь?
— Нет, Сисси. Я ей писал, но она не ответила.
— Ой, ты вспомни, как у нас плохо с письмами. Я тебе расскажу. Их теряют, возвращают отправителю, или они месяцами ходят за тобой следом. Так что не отчаивайся, милый. И где бы она ни была, она славная девочка, совсем не то, что все эти… Нет, Дик, честное слово: у меня все время это странное чувство. Быть беде.
И Сисси как в воду смотрела.
После Ливерпуля мы играли в манчестерском «Паласе», и тут на долю Сисси выпал чудесный денек — наверное, последний перед тем, как все стало плохо, а потом просто хуже некуда. Погода в начале той недели была удивительная, стоял золотисто-голубой май, как у старых поэтов. Во вторник я ездил поездом писать пейзажи, а вечером рассказал о своей поездке. После этого дяде Нику захотелось испытать шестидесятисильный «напье», который ему предлагали, и он договорился, что возьмет его на весь день в среду. Мы захватим ленч и шампанское, он высадит меня в любом месте, где мне захочется поработать, а сам с ревом будет носиться по Дербиширским холмам; Сисси поедет с ним или останется со мной, — как ей захочется. Все получилось как нельзя лучше. Он, счастливый, испытывал свой «напье» — спортивную, но достаточно вместительную и шикарную машину, сверкающую медью. Я был счастлив, потому что сделал пару акварелей, которых можно было не стыдиться: одну утром, в северной части графства, другую днем, южнее, там, где меловые стены точно белые вены на зеленой руке. Сисси, которая утром носилась с дядей Ником, день провела со мной, а ленч на траве — с нами обоими, была, наверное, счастливей всех. Она не была деревенской девушкой, но, как все женщины, обожала поездки и пикники, и этот чудесный день вызвал у нее огромную, глубокую радость, идущую от самого сердца и переживаемую почти всеми женщинами, когда они со своими мужчинами и их мужчины счастливы. (Я полагаю, что это довод в пользу изначального превосходства Женщины: для нее главное — не какое-то занятие, а настроение — вот что приводит ее в восторг.) И если я вспоминаю и отмечаю этот день, то дело не только в моих акварелях, — лучших, что я написал за долгое время, — но и в том, что я люблю вспоминать Сисси, какою она была в этот день. В кои-то веки она не вызывала у меня жалости.
Если бы на следующий день было тепло, я поехал бы туда снова, но погода внезапно испортилась, поэтому я, все еще чувствуя творческий подъем, позвонил Лили в «Мидлэнд» и сказал, что, если она готова позировать, я могу сделать вторую попытку сегодня днем. Ни Альфреда, ни Мергена не было, и часа два я мог работать без помех, хотя каждые двадцать минут приходилось делать перерыв, чтобы Лили могла отдохнуть. Я не портретист и уж не помню, сколько лет назад последний раз рисовал человеческую голову, но в тот день беззаботная смелость незрелого художника, не знающего, что он может, а чего — нет, сослужила мне хорошую службу. После двух торопливых, неудачных набросков, которые я порвал, мне удалось приблизиться к тому, чего я добивался, — это был легкий рисунок пером, передававший неуравновешенность ее натуры и свойственное ей сочетание очаровательного и отталкивающего. Это в самом деле так, ибо я только что взглянул на него и перенесся на пятьдесят лет назад, в заставленную плюшевую гостиную манчестерского «Мидлэнда», где, несмотря на большие окна, было темновато из-за дождя и гари.
Когда я сказал, что закончил, она подошла и взглянула. Она была очень тихая и милая.
— Это я?
— Вот все, на что я способен. Но ведь я не Огастес Джон.
— Можно мне взять его, Дик?
— Нет, Лили, к сожалению, нельзя. Может быть, я сделаю точную копию или сфотографирую его — не в цвете, конечно, — и тогда у вас будет столько копий, сколько вы захотите.
Она бездумно кивнула, словно не слушая, отошла от меня и села.
— В точности ведь не знаешь, как ты выглядишь. Знаешь только, каков ты внутри. А у меня внутри чертова путаница.
Я ничего на это не ответил, но потихоньку начал собираться.
— Тебе не нравится мой номер. О, я знаю, слухом ведь земля полнится. По-твоему, это просто дерьмо. Но это часть меня… пусть малая часть, но все равно она есть во мне, вера в полевые тропинки, солнечные часы на лугу, в жимолость и в старую мельницу у ручья. Так иногда веришь в искренность рождественской открытки. Не знаю, где все эти тропинки влюбленных и розовые сады медового месяца. Зато я знаю, где их нет — в доме в Западном Гемпшире, где надо жить семье из трех человек, а живут десять душ, где мать начинает пить, потому что скоро появится одиннадцатый, где веселый дядя Клифф, вернувшись с моря, лезет тебе под юбку, а тебе всего двенадцать, где… да заткни же мне глотку! — Она умолкла в ожидании, но я тихо продолжал складывать рисовальные принадлежности. — И что-то во мне верит, что есть на свете место, где все по-другому, и это то, чем я пою… по крайней мере, когда пою тихо, под рояль, пока не вступил оркестр на втором припеве и не поднялся звон до задних рядов галерки. Я ведь пою для тех людей, у которых внутри такая же чертова сумятица, как и у меня. Не для таких, как ты, Дик, и твой холодный, умный, как черт, дядюшка. Я дам тебе совет, пока у меня есть настроение. Не связывайся со мной. И с Мергеном — с ним особенно.
— Кто он такой и откуда он взялся. Лили?
— Точно не знаю. Знаю только, что до того, как ему пришлось покинуть Прагу, он был очень известным и серьезным музыкантом. Не знаю, почему ему пришлось так спешно уехать, но догадываюсь. Ты славный, умный мальчик, Дик, поэтому уноси ноги, а то я опять начну, как прошлый раз, но уже не смогу остановиться и разозлюсь на себя, а потом и на тебя. На этот раз пусть все будет чинно и благородно.