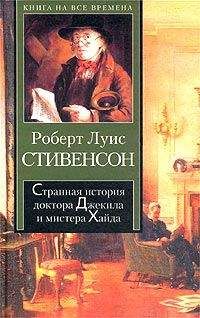— Видите тот высокий обрыв, джентльмены? С ним был смешной случай, очень смешной. Тут один чёртов дурак иностранец цветочки собирал. Всё время собирал на нехороших скалах, иногда обвязывался верёвкой, боялся упасть; верёвкой, ха-ха-ха! Дрянь человек. И бедный. Нет денег совсем. Всегда говорит: «Все итальянцы лжецы, а куда идут лжецы? В Ад, конечно. Вот куда идут лжецы. Вот куда пойдут итальянцы». Это богатый человек, он говорит лжец бедняку. А бедняку лучше не говорить лжец богатому. Это так, джентльмены. Однажды он говорит лжец доброму старому итальянцу. Добрый старик думает: «Ну погоди, вонючее отродье незаконнорождённой свиньи, погоди». У доброго старика был над тем обрывом большой виноградник. Однажды он пошёл посмотреть, как растёт виноград. Посмотрел на край обрыва, а там верёвка висит. Очень странно, думает он. Тогда он посмотрел на конец верёвки и видит, висит дрянной человек. Это так, джентльмены. Дрянной человек висит в воздухе. Не может выбраться. «Вытяни меня», говорит он. Добрый старик, он засмеялся — ха-ха-ха! Так смеялся, что живот заболел. Потом вынул нож и стал резать верёвку. «Видишь нож?» — крикнул он вниз. «Сколько за то, что вытяну?» Пятьсот долларов! «Сколько?» Пять тысяч! «Сколько?» Пятьдесят тысяч. А добрый старик говорит тихо-тихо: «Нет у тебя никаких пятидесяти тысяч, ты лжец. А куда идут лжецы? В Ад, конечно. Вот куда идут лжецы. И ты туда пойдёшь, мистер. В Ад.» И он перерезал верёвку. Тот полетел вниз, бабах! вертится в воздухе, как колесо с фейерверком, первая скала — трах! вторая скала — трах! третья скала — трах! четвёртая скала — та-ра-рах! Шестьсот футов. А потом, как лепёшка, в воду. Это так, джентльмены. Куда он потом подевался? Уплыл в Филадельфию? Не думаю! Утоп, конечно. Ха-ха-ха! Добрый старик, когда вернулся утром домой, он смеялся. Он смеялся. Просто смеялся. Сначала тихо, потом громко. Всё время смеялся, скоро и семья вся тоже. Десять дней смеялся, чуть не умер. После поправился и прожил ещё много добрых лет. Теперь он в Раю, Господь да упокоит его душу! И никто не узнал, никогда. На Непенте хороший судья. Здесь всегда хорошие судьи. Всё знает и ничего не знает. Понимаете? Здесь все люди хорошие. Это так, джентльмены.
Эту историю он рассказал с сатанинским пылом, покачиваясь взад-вперёд, как если бы его сотрясала потаённая радость. Затем, смачно сплюнув, снова взялся за вёсла, которые выронил, жестикулируя.
Епископ задумался. Что-то в этом рассказе было не так — что-то в корне неправильно. Он повернулся к Киту:
— Должно быть, и этот человек тоже лжец. Если, как он говорит, никто ничего не узнал, он-то откуда же знает?
— Тише, мой добрый друг. Он думает, будто мне ничего не известно, но он ошибается. Всё это приключение случилось с его отцом.
— Хорошенькое приключение! — сказал мистер Херд.
— Разумеется, приключение. Не собираетесь же вы делать из него трагедию? Если вам не по силам увидеть в этой истории смешную сторону, значит на вас трудно угодить. Я, когда впервые услышал её, чуть не умер от смеха.
— А что бы вы сделали?
— На месте ботаника? Я бы не стал ссориться с местными жителями. И кроме того, постарался бы не запутаться в верёвке.
— Вы думаете, он должен был сам перерезать её?
— А что ещё бедняге оставалось делать? Я поражаюсь вам, Херд, вы придаёте человеческой жизни непомерно большое значение.
— Тут довольно сложный вопрос, — вздохнул епископ.
— А вот это уже совсем интересно!
— Интересно?
— Почему вам он представляется сложным, когда я нахожу его очень простым? Наши жизни не имеют никакого значения, разве не так? Мы знаем это совершенно точно. Но нам такое знание не по душе. Нам не нравится, что нас так легко сбросить со счетов. Нам хочется, чтобы существовало нечто, делающее нас более ценными, чем мы есть. Поэтому мы создаём фикцию, посредством которой пытаемся отделаться от собственной ничтожности, — фиктивное существо, восседающее где-то там, над нами и вечно занятое присмотром за каждым из нас, усердно заботящееся о нашем благополучии. Будь это так, мы бы утратили нашу ничтожность и, пожалуй, постарались бы сделать ему приятное, по малой мере не истребляя друг друга. К сожалению, этого не происходит. Избавьтесь от фикции, тогда и от вашего ощущения того, как всё это сложно, ничего не останется. Насколько я понимаю, вас обуяла потребность в самоанализе. Размышляете над каким-нибудь пасторским посланием?
— Размышляю над моими, как бы выражаетесь, ценностями. До последнего времени, Кит, у меня не было времени подумать — приходилось действовать, приходилось то и дело хвататься за что-то безотлагательное. Теперь у меня впервые появился настоящий досуг и передо мной вдруг встали кое-какие проблемы — видимо, здешняя обстановка способствует этому. Проблемы, конечно, мелкие, поскольку сознание неколебимости оснований, на которых зиждется достойная человеческая жизнь, всё же непреложны. Ощущение правого и неправого заложено в нас изначально и заложено твёрдо. Нравственные законы, как бы ни были они порою трудны для понимания, явлены нам в письменах, и никогда не меняются.
— Никогда не меняются? С таким же успехом вы можете заявить, что никогда не меняются вон те утёсы. Доказательство изменчивости законов достойного поведения состоит хотя бы в том, что если бы вас воспитали так же, как вашего прадеда, вы очень скоро попались бы закону в лапы за то, что заклеймили раба или всадили в кого-нибудь пулю на дуэли. Я готов признать, что мораль изменяется медленно. Она меняется медленно потому, что медленно меняются пролетарии, которые её производят. Полагаю, между толпой древнего Вавилона и толпой нынешнего Шордича{120} разница невелика, вследствие чего и специфические эманации обеих более или менее схожи. Собственно, по этой причине мораль и проигрывает в сравнении с интеллектуализмом, который является продуктом высших слоёв общества и что ни минута, то вспыхивает новыми красками. Однако даже мораль меняется. Спартанцы, люди высокоморальные, полагали, что воровство — дело решительно недостойное. Такой современный порок, как лживость, почитался за добродетель одним из величайших народов античности. А такая современная добродетель, как прощение врагов своих, считалась пороком, достойным только раба. Пьянство же, одинаково осуждаемое и древним, и современным миром, в переходные периоды становилось отличительным признаком джентльмена.
— Я понимаю, к чему вы клоните. Вы хотите внушить мне мысль, что эта, как вы её называете фиктивная ценность, этот ореол святости, которым мы ныне окружаем человеческую жизнь, может испариться в любую минуту. Возможно, вы правы. Мы, англичане, быть может, преувеличиваем её значение. В той части Африки, где я работал, она не так уж и ценится.
— И кроме того, я не согласен со сказанным вами о трудности понимания нравственных законов. Любое дитя способно без труда усвоить мораль своего времени. Но почему я-то должен возиться с тем, что доступно даже дитяти? Мне попросту трудно удерживать мой разум на таком низком уровне. Да и чего ради я должен обременять себя такими трудами? Когда взрослый человек проявляет к подобным вопросам неподдельный интерес, я прихожу к выводу, что передо мной случай задержки в развитии. Любая мораль представляет собой обобщение, а обобщения все до единого скучны. Зачем же я стану досаждать себе тем, что вызывает у меня скуку? Строго говоря, меня занимает вопрос не о том, достойна ли нравственность разговоров о ней, — я хотел бы понять, достойна ли она осмеяния? Порой мне кажется, что достойна. Она напоминает мне одну из тех шуточек в старинных пантомимах, которые поначалу нагоняют на человека тоску своей душераздирающей пошлостью, шуточку, смысл которой человеку надо старательно вдалбливать, пока он не поймёт, до чего она смешна. И клянусь Юпитером, эту шуточку нам вдалбливали очень старательно, не так ли? Вам бы поговорить на эти темы с доном Франческо. У него на сей счёт понятия твёрдые, хоть он и не зашёл в своих выводах так далеко, как я. Или с графом Каловеглиа. Этот старик — истинный латинянин. Почему бы вам как-нибудь не заехать к нему, не посмотреть на «Локрийского фавна». Стрит из Южного Кенсингтона очень высокого мнения об этой статуэтке.
— Сейчас я предпочёл бы послушать вас. Я слушаю и размышляю. Пожалуйста, продолжайте. Я вам как-нибудь тоже прочту одну из моих проповедей.
— Да? Интересно будет услышать! Я не уверен, Херд, что вы до конца ваших дней напишите ещё хотя бы одну проповедь. Не думаю также, что вы вернётесь в Африку и вообще будете подвизаться по епископальной части. Я думаю, что вы достигли поворотного пункта.
Епископ на миг задумался. Последние слова попали в цель. Затем он весело сказал:
— А вы сейчас в лучшем расположении духа, чем были совсем недавно.
— Это история насчёт ботаника меня приободрила. Он неплохо её рассказывает, правда? Приятно жить в мире, где ещё могут случаться подобные вещи. Возникает ощущение, что жить всё-таки стоит. Появляется даже желание поспорить о чём-нибудь. Что вы такое собирались сказать насчёт американского миллионера?