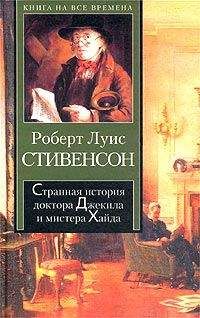Но смысл его тирад уже не давался епископу. Их звук доносился до него подобием далёкого эха. Он задремал, сам того не заметив.
— Факиры. Я всё понимаю…
Казалось, лодка движется медленнее, чем прежде. Возможно, гребцы устали или перегрелись. Жар проникал даже сквозь полог. Устроившийся на подушках мистер Херд ощущал, как лоб его покрывает испарина. На него словно пало заклятие — заклятие южного полдня. Оно убаюкало его чувства. Сковало мысли.
Наступило долгое молчание, нарушаемое лишь плеском вёсел и ровно текущей беседой двух греческих гениев, видимо, невосприимчивых к полдневным лучам и целиком ушедших друг в друга. Они разговаривали и посмеивались, не повышая из учтивости голосов. Время от времени мистер Херд приподымал тяжёлые веки, чтобы полюбоваться весёлой игрой их черт, дремотно гадая, о чём можно вести столь бесконечные, учтивые разговоры.
Как старый лодочник, так и мистер Кит были правы в своих догадках. На рыночной площади происходили беспорядки и беспорядки серьёзные: настолько серьёзные, что впервые за пять лет — со времени того самого скандала, который учинила здесь ирландская леди со своим пуделем, — пришлось созывать Милицию. Вина же за происшедшее целиком лежала на Священных шестидесяти трёх.
Самого Мессию укорить было не за что. В последнее время бедный старик сильно сдал, ослаб и телом, и духом. Художник-француз, специально приехавший из Парижа, чтобы зарисовать его для предприимчивого журнала «L'Illustration»,[50] после нескольких сеансов позирования отозвался о нём без всякого снисхождения: «comlètement ga-ga».[51] Роскошь непентинской природы, обильная пища, преклонение учеников, алкогольные и плотские излишества подточили его крепкое мужицкое здоровье, помутили разум и не оставили камня на камне от энергии и коварства, позволявших ему некогда править Императорским Двором. Тело заплыло жиром. Сознание распадалось. Даже от присущей ему когда-то чистоплотности остались одни воспоминания. Одутловатый и бледный, он восседал в тёмной комнате, приобретая всё большее сходство с каким-то выросшим в тени непотребным овощем.
Редкие движения давались ему всё с большим трудом; он и рот теперь если и раскрывал, то главным образом, чтобы поесть, ибо аппетит у него, благодаря определённого рода усилиям городского врача, сохранялся вполне удовлетворительный. Когда же он пытался говорить, то изо рта его вылетали разрозненные слоги, из каковых даже самым преданным ученикам не удавалось слепить фразу, связную настолько, чтобы её можно было вставить в «Златую Книгу». Широкой известности все эти обстоятельства ещё не приобрели, но посвящённые взирали на них в смятении. Для них не было тайной, что последние из вошедших в Книгу, приписываемых ему изречений числом в двадцать одно никогда не слетали с его уст. Их состряпала клика молодых экстремистов, ставших ныне хозяевами положения. Эти фанатики подредактировали «Златую Книгу», а старика держали в полном подчинении, оттерев его прежних, более умеренных приспешников.
Вот их-то непродуманные действия и стали причиной катастрофы, которая затмила озарявшее Непенте сияние святости и привела апостолов к столкновению со всемогущим мирским законом. Обеспокоенные затянувшимся бездействием Учителя, они воспылали, как это водится у учеников, желанием усовершенствовать учение и решились на смелый шаг. Они решили, что настало время явить миру новое Откровение.
Стоит напомнить, что последнее из несомненно принадлежавших Мессии откровений, сводилось к тому, что «плоть и кровь теплокровных скотов суть мерзость для Белых Коровок». Слово «теплокровные» попало в это наитие потому, что такой продукт питания, как например рыба, пользовался у Мессии особой любовью, отчего он и не чувствовал себя вправе лишить истинно верующих этого дара Божия.
Упомянутые фанатики, проявляя неуместное рвение и не задумываясь о том, что оно может стоить многим из них жизни и свободы, обнародовали новое Откровение, имевшее следующий вид: «всё, исходящее от мёртвых скотов, суть мерзость для Белых Коровок». Слово «мёртвые» попало в это наитие потому, что такой сельскохозяйственный продукт, как например овечья шерсть (а вернее — изготовленная из неё одежда), пользовался у них особой любовью, отчего они и не чувствовали себя вправе лишить истинно верующих этого дара Божия.
Но даже и в таком виде новая Заповедь требовала, чтобы Священные шестьдесят три поступились массой удобств. Кожаной обувью, живописными поясами, костяными ручками ножей, гребешками, сальными свечками… Впрочем, они были готовы следовать букве этого предписания, поскольку оно давало им нечто такое, чего жаждут все религиозные люди, а именно — средство помучить самих себя. Так всё и шло до настоящего утра, в которое на рыночной площади появилась, неспешно фланируя, совсем недавно прибывшая из дикой Московии, ещё горящая пылом самоотречения и ничего не ведающая о местных обычаях и законах компания крепышей в только что купленных пеньковых сандалиях.
Один из них вдруг вспомнил, что у него вышли сигареты, благо табак не происходил от теплокровных животных, ни даже от мёртвых. Не зная ни слова по-итальянски, он зашёл в табачную лавочку и жестом изобразил процесс курения — так умело, что владелец лавочки сразу всё понял и вручил ему пачку. Тут крепышу пришло в голову, что ему не помешают и спички. Это потребовало жеста более сложного, столь сложного, что пожалуй никто, кроме непентинца, одарённого, как и все представители его народа, живой интуицией, не смог бы и отдалённо понять, что именно требуется апостолу. Табачник оказался на высоте положения. С улыбкой добродушного понимания он выложил на прилавок крошечный коробок восковых спичек ценою в два су.
На том всё бы и закончилось, если бы не новое Откровение, побудившее здоровяка-иноземца исследовать состав предлагаемого товара. Он вытащил одну спичку и внимательно её оглядел. Затем, пальцами растерев её в порошок, поднёс к носу и неодобрительно принюхался. Результат исследования показался ему в высшей степени подозрительным. Пчелиным воском тут и не пахло, спичку явно изготовили из сала мёртвых животных, каковые есть мерзость и нечистота. Будучи человеком благочестивым и по-юношески пылким, он поступил в точности так, как поступил бы, столкнувшись с подобной провокацией, у себя в России. Последовал третий жест, жест отвращения и неодолимого гнева, — крепыш швырнул коробок табачнику в лицо.
Опять-таки и на этом всё могло бы закончиться, окажись торговец русским. Русские люди ценят прямые поступки.
Но торговец был местным уроженцем.
Для того, чтобы как следует разобраться в последующих событиях, необходимо иметь в виду, что здешние табачники занимают особое положение. В местном обществе они стоят на уровне более высоком, чем в других странах. Они не просто частные торговцы, не рядовые граждане, они — в определённом смысле — состоят на государственной службе. Итальянский табачник уполномочен продавать carta bollata,[52] то есть снабжённую официальными печатями бумагу, используемую для написания контрактов и прочих требующих регистрации юридических документов; он торгует табачными изделиями и марками — и то, и другое является монополией государства; он продаёт (по особой лицензии) восковые спички, каждый коробок которых обложен налогом — столь мизерным, что покупатель его и не замечает, но дающим такие суммы, что государство из одной только этой статьи дохода выплачивает ежемесячное жалованье всем своим колониальным судьям, по сорок пять франков каждому. Очень разумный налог. Дон Франческо, имевший представление о политической экономии и кое-что знавший о жизни в Англии, ибо он проповедовал перед тысячами шахтёров-католиков Уэльса и был исповедником нескольких сот католических дам в Мэйфэре{126} (он занимался бы этим и поныне, если бы не небольшая contretemps,[53] приведшая к столкновению между ним и иезуитами с Маунт-стрит{127}) — дон Франческо, наделённый всеми качествами, необходимыми для изложения мнений южанина, часто обращался к этому налогу на спички, желая доказать превосходство усвоенных его страной методов управления перед теми, что практикуются в Англии. Вот что он говорил в обществе близких друзей:
— У русских есть убеждения, но отсутствуют принципы. У англичанина есть принципы, но нет убеждений — неколебимые принципы, избавляющие его от необходимости самому что-то выдумывать. Надеяться понять что-либо ещё в этой флегматичной, лишённой воображения нации дело пустое. Англичане чтят закон — естественно, поскольку преступление требует воображения. Им никогда не устроить порядочной революции — без воображения не побунтуешь. Среди прочего они гордятся тем, что избавлены от досадительных пошлин. И однако же виски, бутылка которого при самом лучшем качестве стоит лишь десять пенсов, облагается таким налогом, что покупать её приходится за пять шиллингов; эль, источник жизненной силы нации, не стоит и трёх пенсов за галлон, а продаётся по пяти пенсов за пинту; за унцию табака, который можно было бы с выгодой продавать по два пенса за фунт, приходится платить пять пенсов. И сколько с англичанина ни дери, он на всё согласен, потому что в глубине своего помутнённого разума считает, будто всё это делается для блага нации в целом. Вот способ, посредством которого англичанин достигает душевного благополучия: он отказывает себе в удовольствиях ради того, чтобы спасти душу ближнего. Эль и табак суть предметы потребления, доставляющие человеку удовольствие. Стало быть, они являются подходящим объектом обременительных ограничений. А от шведских спичек никто ещё удовольствия не получал. Стало быть, в качестве источника государственного дохода они никуда не годятся. Англичане наделены таким нюхом на удовольствия и неудовольствия и испытывают такой furor phlegmaticus[54] именно в этом вопросе, что как только возникает мысль обложить спички налогом — неосязаемым налогом, способным до невероятия обогатить Казначейство, — они выстраиваются в десятимильную процессию, чтобы протестовать против такого попрания их прав, угрожая камня на камне не оставить от обеих палат Парламента. А почему? Потому что обложение спичек налогом не служит никакой нравственной цели, потому что лишь сумасшедший способен испытывать обременённое чувством вины удовольствие, используя их в качестве курева или алкоголя. Коротко говоря, рассудок англичанина устроен в точности, как у параноика — всё логично, только исходные предпосылки никуда не годятся. Не то чтобы мне не нравились английские женщины…