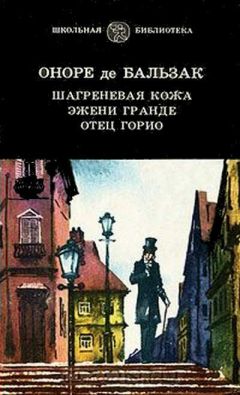С минуту Горио хранил молчание и как будто напрягал силы, чтобы перенести боль.
— Кабы они были тут, я не жаловался бы, — произнес он. — На что же мне жаловаться?
Он впал в забытье и долго не приходил в себя. Вернулся Кристоф. Растиньяк, думая, что папаша Горио заснул, не остановил слугу, когда тот стал громко докладывать об исполненном поручении.
— Сударь, я отправился с начала к графине, но говорить с ней мне не удалось, она была занята с мужем важными делами. Я настаивал, чтобы меня к ней пустили; тогда вышел сам господин де Ресто и сказал мне: «Господин Горио умирает; ну, что же, туда ему и дорога. Я должен закончить с госпожой де Ресто важные дела; она приедет, когда мы кончим». У барина был очень сердитый вид. Когда я собирался уйти, выходит в переднюю барыня, я и не заметил, в какую дверь она прошла, и говорит мне: «Кристоф, скажи отцу, что у меня большой спор с мужем, я не могу оставить его; дело идет о жизни моих детей; но как только все будет кончено, я приеду». А с баронессой другая история! Ту я и вовсе не видал и не мог с ней говорить. «Барыня вернулась с бала четверть шестого, она спит, — сказала мне горничная. — Коли я разбужу ее раньше двенадцати, она будет браниться. Когда она позвонит, я скажу ей, что отцу ее стало хуже. Дурную весть всегда успеешь передать». Сколько я ни просил, ничего не добился. Я хотел поговорить с барином, но его не было дома.
— Ни одна из дочерей не приедет! — воскликнул Растиньяк. — Я напишу сейчас обеим.
— Ни одна, — отозвался старик, приподнимаясь. — У них дела, они спят, они не приедут. Я так и знал. Только умирая, узнаешь, что такое дети. Ах! Друг мой, не женитесь, не имейте детей! Вы даете им жизнь, а они дают вам смерть. Вы производите их на свет, а они сживают вас со света. Нет, они не приедут! Уже десять лет, как я знаю это. Я думал так иногда, но не решался этому поверить.
Слезы навернулись на его глаза и застыли на красных веках.
— О! Если б я был богат, если бы я сохранил свое состояние, если бы я не отдал его им, они были бы тут, они покрывали бы мне щеки поцелуями! Я жил бы в особняке, у меня были бы прекрасные покои, прислуга, огонь пылал бы в камине, и они были бы тут в слезах, с мужьями, с детьми. У меня было бы все. А теперь ничего. Деньги дают все, даже дочерей! О! Где мои денежки? Если бы я мог оставить им сокровища, они ходили бы за мной, лечили бы меня; я слышал бы, видел бы их. Ах! Дорогое дитя, единственное дитя мое, я предпочитаю свою заброшенность и нищету! Когда любят бедняка, то, по крайней мере, он может быть твердо уверен в том, что его любят искренно. Нет, я хотел бы быть богатым, я увидел бы их. А, впрочем, как знать? У них обеих каменные сердца. Я слишком любил их, чтобы они могли любить меня. Отец должен всегда оставаться богатым, должен держать своих детей в узде, как норовистых лошадей, А я ползал перед ними на коленях. Презренные! Они достойно увенчивают свое отношение ко мне за последние десять лет. Если бы вы знали, как они ухаживали за мной в первое время замужества! (О! Как я жестоко страдаю!) Я только что дал тогда около восьмисот тысяч приданого за каждой из них: ни они, ни мужья их не могли быть грубы со мной. Меня радушно принимали: «Садитесь сюда, милый папаша; сюда, дорогой папаша». За столом у них всегда стоял прибор для меня. Я обедал с их мужьями, и те относились ко мне с уважением. Они думали, что у меня есть еще кое-что. Откуда они это взяли? Я ничего не говорил им о своих делах. За человеком, который дает дочерям по восьмисот тысяч приданого, стоит поухаживать. И передо мной юлили, из-за моих денег, конечно. Люди дрянь. Я убедился в этом. Меня возили в карете по театрам, и я бывал, когда хотел, на их вечерах. Словом, они называли себя моими дочерьми и признавали меня своим отцом. Но я еще кое-что мерекаю, от меня ничего не укроется. Все доходило по назначению и было для меня словно нож в сердце. Я хорошо видел, что это одна комедия; но ничего не поделаешь! Мне было у них не по себе, не то что за столом здесь, внизу. Я не умел связать двух слов. И когда кто-нибудь из светских господ спрашивал моих зятьев: «Что это за господин?» — ему отвечали: «Это папаша толстосум, денег хоть отбавляй». — «А, черт возьми!» И на меня глядели с подобающим почтением. Если я порою и стеснял их немного, то с лихвой искупал свои недостатки; к тому же, кто свободен от недостатков? (Голова моя — сплошная язва.) Я мучаюсь сейчас так, что умереть можно, дорогой Эжен, и все же это ничто по сравнению со страданием, испытанным мною, когда Анастази впервые дала мне понять взглядом, что я только что сказал глупость, от которой ей пришлось покраснеть; ее взгляд словно полоснул меня по самому сердцу. Мне хотелось знать всю правду, но я узнал твердо одно, что я лишний на земле. На другой день я пошел к Дельфине, чтобы утешиться, но и там сделал глупость, рассердившую ее. Тогда я словно с ума сошел. Целую неделю не знал, что делать. Идти к ним я не осмеливался, боялся, что будут меня попрекать. Вот собственные дочери и выставили меня за дверь. О, господи! Тебе ведомы все унижения, все страдания, которые я перенес; ты знаешь, сколько ударов кинжалом получил я за это время, когда успел одряхлеть, измениться, стать полутрупом, поседеть, — почему же ты заставляешь меня страдать теперь? Я слишком любил их, но я искупил свой грех. Они достаточно отомстили мне за мою любовь, они пытали меня, как палачи. О! Отцы ведь так глупы! Я так любил их, что не мог обойтись без них, как игрок без игры. Дочери были моим пороком; они заменяли мне любовниц; словом, были для меня всем! Им бывали нужны драгоценности, чтобы меня хорошо принимали! Но они все-таки поучали меня, как я должен держать себя в свете. О! Они не откладывали в долгий ящик свои нравоучения. Они начали краснеть за меня. Вот что значит дать детям хорошее воспитание! Но не мог же я в свои годы ходить в школу. (Я ужасно страдаю, боже мой! Доктора, доктора! Если мне вскроют череп, я буду меньше страдать!) Дочери мои, дочери! Анастази, Дельфина! Хочу их видеть. Пошлите за ними жандармов, приведите их силой! Правосудие на моей стороне, все за меня — и природа и закон. Я протестую. Отечество погибнет, если отцов будут топтать ногами. Это ясно, как день. Общество, мир держится на отцовстве; все рухнет, если дети не будут любить отцов. О! Только бы увидеть, услышать их. Что бы они ни говорили, только бы слышать их голос, это утишит мою боль, особенно Дельфина. Но скажите им, когда они будут здесь, чтобы они не смотрели на меня по обыкновению холодно. Ах! Друг мой, господин Эжен, вы не знаете, какая мука, когда золото взгляда превращается вдруг в серый свинец. С того дня, как их глаза перестали смотреть на меня своим светом, для меня наступила вечная зима; с той поры я не видел ничего, кроме горя, и сколько я натерпелся его! Моя жизнь стала цепью унижений и оскорблений. Я так люблю их, что сносил все обиды, которыми покупались жалкие крохи радости. Отец видит своих дочерей тайком! Я отдал им всю свою жизнь, а они не дают мне теперь ни одного часа. Меня мучит голод, жажда, сердце мое в огне, а они не придут облегчить мою агонию; я ведь умираю, я чувствую это. Они не знают, стало быть, какое преступление попирать труп отца. На небе есть бог, он мстит за нас, за отцов., вопреки нашей воле. О! Они придут. Придите, мои любимые, придите поцеловать меня еще раз, дайте последний прощальный поцелуй своему отцу; он будет молить бога за вас, он скажет ему, что вы были хорошими дочерьми, он заступится за вас! Если хорошенько разобраться, вы ни в чем не виноваты. Они не виноваты, друг мой! Скажите это всем, чтобы им не досаждали из-за меня. Во всем виноват я; я приучил их топтать меня ногами. Мне это нравилось самому. Никому нет до этого дела, ни людскому правосудию, ни божескому. Бог совершил бы несправедливость, если бы осудил их за меня. Я не умел вести себя; я сделал глупость, отрекшись от своих прав. Я готов был унижать свое достоинство ради них! Чего вы хотите? Прекраснейшие натуры, самые лучшие души не устояли бы и испортились бы от такого отцовского баловства. Я достоин презрения, я справедливо наказан. Я сам распустил своих дочерей, я избаловал их. Они хотят теперь удовольствий, как хотели раньше конфет. Когда они были девушками, я всегда позволял им исполнять их прихоти. Уже в пятнадцать лет у них был собственный выезд! Им ни в чем не было отказа. Я один виноват, но виной была моя любовь к ним. Мое сердце раскрывалось при звуках их голоса. Я слышу, они приехали. О, да! Они приедут. Закон велит приезжать повидаться с умирающим отцом, закон за меня. К тому же это ничего не будет стоить. А за проезд я заплачу. Напишите, что я могу оставить им миллионы! Честное слово. Я поеду делать макароны в Одессу. Я знаю способ приготовления. С помощью его можно нажить миллионы. Никому это не приходило в голову. Макароны не портятся при перевозке, как зерно или мука. Ну а крахмал? Там меня ждут миллионы! Скажите им о миллионах, вы не солжете, пусть они приедут хоть из корысти, — пусть я буду обманут, — только бы увидеть их! Я хочу, чтобы здесь были мои дочери! Я породил их! Они — мои! — сказал он, садясь на своем ложе и поворачивая к Эжену голову с седыми всклокоченными волосами, с выражением угрозы в каждой черте лица.