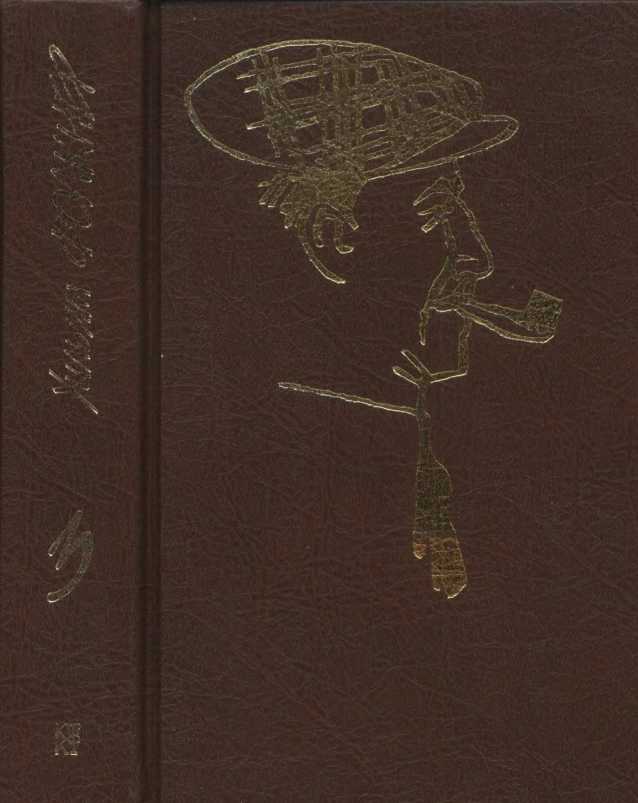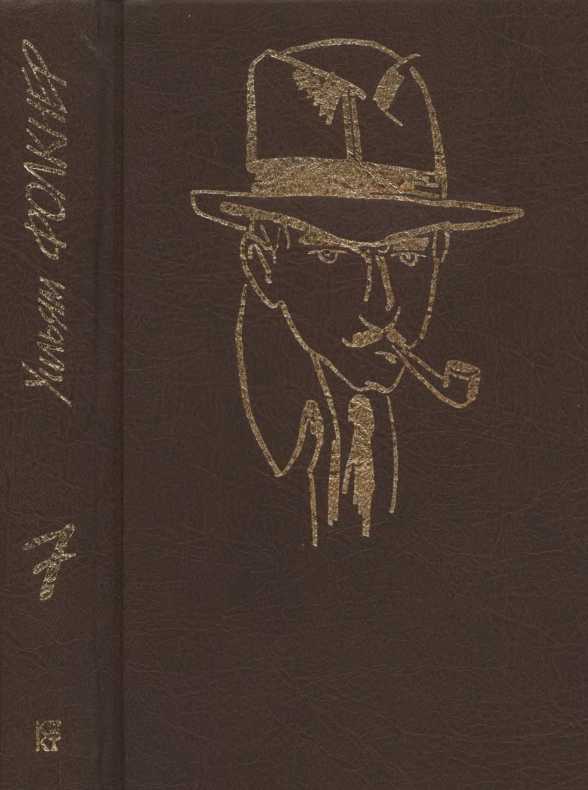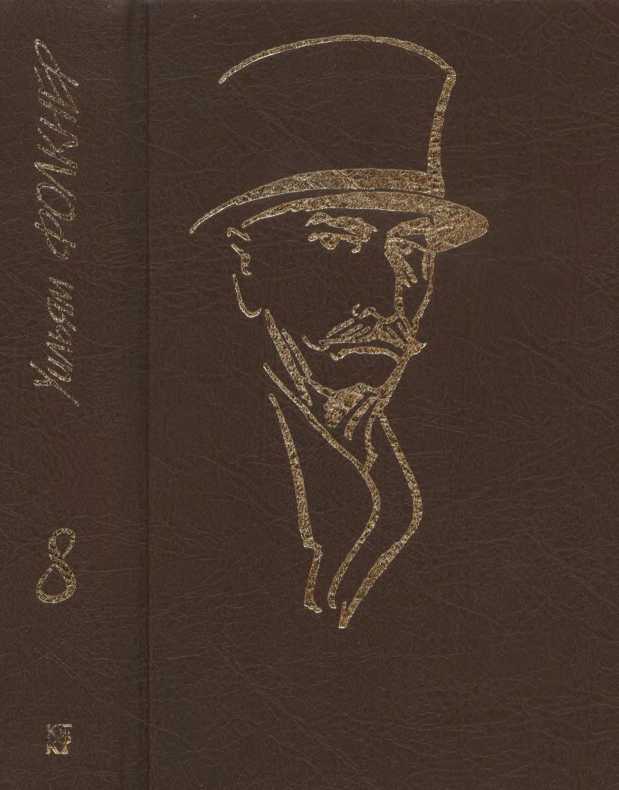лбом. Когда же поднял голову, комната полна была народу.
— Черт подери! — воскликнул Джордж Уайэт. — Ты отнял у него пистолет и промахнулся два раза подряд? — И ответил сам, ему подсказал Друзиллин инстинкт, у Джорджа еще более изощренный: — Нет, постой. Ты вошел — без карманного ножа даже — и дал ему дважды выстрелить и промахнуться. Господи милостивый!
Он повернулся, крикнул:
— Выйдите-ка все отсюда! Ты, Вайт, езжай к Сарторисам и скажи там, что все уже кончилось и он жив-здоров. Ну же!
Они ушли, остался только Джордж, не сводивший с меня своего бесцветного, раздумчивого (но отнюдь не рассуждающего) взгляда.
— Вот это номер, — сказал он. — Выпить хочешь?
— Нет, — ответил я. — Есть хочу. Я не завтракал.
— Еще бы. Когда такое задумал, завтрак в рот не полезет. Вставай. Зайдем в гостиницу.
— Нет, — сказал я. — Туда нет.
— Почему ж? Стыдиться тебе нечего. Я-то бы сделал иначе. Хоть разок бы, да выстрелил по нем. Но тебе виднее.
— Да, — сказал я. — Я бы снова так сделал.
— Дело хозяйское. Тогда зайдем ко мне. Закусим, а потом поедем и как раз успеем к похор…
Но я и этого не мог.
— Нет, — сказал я. — Собственно, я и есть не хочу. Домой поеду.
— А может, все-таки подождешь, вместе поедем?
— Нет. Я поеду.
— Что ж, тут-то тебе оставаться незачем.
Помаргивая свирепыми, бледными, нерассуждающими глазами, он опять обвел ими комнату, знойный, безжизненный воздух которой еще хранил, таил в себе запах пороха, хотя дым уже рассеялся.
— Черт меня подери, — снова вырвалось у него. — Может, ты и прав, может, и так уже довольно крови на вашей семье. Пойдем!
Мы вышли. Спустившись с лестницы, я чуть подождал, пока Ринго не подвел лошадей. Мы пересекли площадь. Перила веранды уже опустели (было двенадцать), но у входа в бар стояли люди, они приподняли шляпы, я ответил тем же, и мы с Ринго поехали дальше.
Мы не торопились. Когда доехали до выгона, был уже час дня, а то и больше, скоро экипажи и коляски потянутся от площади к нашему дому, и я свернул с дороги, остановил Бетси, стал с седла отворять калитку. Ринго слез, открыл. Лошади пошли по выгону, под немилосердным солнцем, отсюда уже виден был дом, но я не смотрел туда. Мы спустились в тень, душную, густую тень низины, в зарослях здесь еще валялись, догнивая, жерди от загона, где мы прятали в войну добытых у янки мулов. Вот и шум воды, и блики на воде. Мы спешились. Я лег в траву навзничь, подумал: «А теперь пусть и удушье опять…» Но комок не подступил, я уснул на половине мысли. Проспал я почти пять часов, и мне ничего не снилось, но проснулся плача и никак не мог перестать. Около на корточках сидел Ринго, солнце уже зашло, по какая-то птица еще пела, и слышно было, как проходящий на север вечерний поезд свистит и отрывисто попыхивает, трогаясь, — видно, делал у нас остановку. Наконец я утих, Ринго зачерпнул своей шляпой воды, принес, но я сам сошел к речке и умыл лицо.
На выгоне было еще довольно светло, хотя уже кричали козодои, а когда мы подъехали к дому, на магнолии пел пересмешник по-ночному — дремотно и мечтательно, и снова месяц был узким отпечатком каблука в сыром песке. В холле горел лишь один канделябр, и, значит, все уже кончилось, но еще пахло цветами, и вербена в моей петлице не заглушала их. Я не простился с отцом утром. Хотел войти перед уходом, но не вошел. Так и не взглянул на него снова, а портреты, что от него остались, все плохие, потому что фотография так же бессильна сохранить его, мертвого, как дом — уберечь его тело от тления. Но и так он здесь, и здесь пребудет; то, что Друзилла назвала его грезой, не ушло с ним, а завещано нам, не забудется, и стоит лишь любому из нас — черному ли, белому — закрыть глаза, как оно примет даже телесный облик отца.
Я вошел в дом. В гостиной было сумрачно, только на западном окне, на цветных стеклах тети Дженни, лежал последний отсвет заката. Я хотел было пройти наверх, но заметил, что она сидит там у окна. Она не окликнула меня, я не спросил ее о Друзилле. Просто встал в дверях.
— Она уехала, — сказала тетя Дженни. — Вечерним поездом. Уехала к Деннисону, в Монтгомери.
Денни вот уже с год как женился, он жил в Монтгомери, изучал право.
— Так, — сказал я, — Выходит, она не…
Но и этого не стоило спрашивать: Джед Вайт наверняка побывал здесь еще в первом часу дня и рассказал им. Да тетя Дженни и не ответила. Она могла бы солгать, но сказала только:
— Подойди-ка.
Я подошел к ее креслу.
— Встань на колени. Мне тебя не видно.
— Может быть, лампу зажечь?
— Нет. Встань на колени. Итак, ты расчудесно провел субботний денек? Ну-ка, расскажи Мне.
Ее руки легли мне на плечи. Я чувствовал, как эти руки порываются вверх точно сами собой, против ее воли, как будто она ради меня боролась, пыталась совладать с ними, по не смогла или не выдержала — рука поднялись, обхватили мое лицо, крепко, и вдруг у нее слезы покатились по щекам, брызнули, как хохот у Друзиллы.
— О, будьте вы, Сарторисы, неладны! Будьте вы трижды неладны!
Когда я вышел из гостиной, в столовой зажегся свет — Лувиния накрывала на стол к ужину. Так что лестница осветилась. Но наверху было темно. Я увидел, что дверь в ее комнату открыта (как бывают растворены только двери уже нежилых комнат), и понял, что до этого еще не верил в ее отъезд. Я прошел мимо, не заглянув. Вошел к себе. И с минуту думал, что это так распахлась вербена у меня в петлице, пока не подошел к кровати и не увидел на подушке веточку (она их отщипывала, не глядя, с полдюжины подряд, и все выходили одного размера, почти одной формы, словно машиной отштампованные) — веточку, наполняющую комнату, сумрак, вечер тем единственным ароматом, за которым ей не слышен был запах лошадей.
Французовой Балкой называлась часть плодородной речной долины в двадцати милях к юго-востоку от Джефферона. Защищенная холмами и уединенная, обособленная, но четких границ не имеющая, лежащая на стыке двух округов и ни