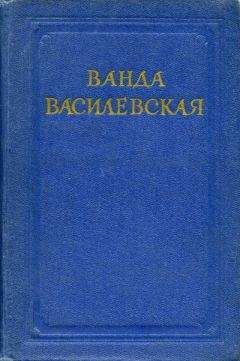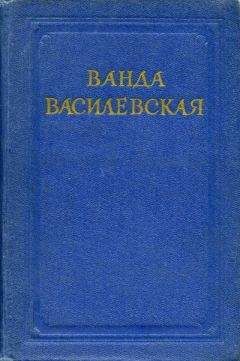— Куда мы его денем? В избу?
— А куда ж? В избе лучше всего. Растопи печку, Ольга. Только раньше завесь окно. Надо сейчас же приниматься за работу.
Младший. Совюк пошел спать, остались только Данило и Кузьма. Они связали задние ноги кабана и, перекинув веревку через балку, подтянули его к потолку. Он закачался на веревках, свисая почти до глиняного пола, огромный и темный.
— Ну и велик! — восхищенно вздохнула Ольга, наливая воду в котел.
— Да, будет из него мяса, будет…
— И сала.
— Колбас надо наделать.
— А хороша колбаса из кабана?
— А чем плоха? Только облизываться будешь, не беспокойся.
Павел притащил из сарая корыто. Они ждали, пока кабан немного оттает — сейчас он был твердый, как железо.
— А я уж думала, не случилось ли что с вами, столько времени не было, — говорила Ольга, доставая ножи.
— Далеко ушел, аж за Полос, в «Нетры».
— С порубленной башкой?
— Живучий он, страсть какой живучий. Подложи-ка, девка, дров в печку, пусть отогреется.
Ольга подставила миску под морду кабана. Из нее уже начинала сочиться кровь. Павел в сенях водил ножом по точилу.
— Выгляни-ка, Кузьма, все ли тихо?
— Ну, кто тут будет околачиваться, окно ведь завешено, — отговаривался старик, которому не хотелось выходить из теплой избы.
— Иди, иди, не замерзнешь, а все же верней будет!
Кузьма обошел кругом двора, но везде была глухая тишина.
— Никого нет.
— Ну и хорошо. Дала бы ты, Ольга, закусить чего-нибудь. Ведь с утра крошки во рту не было.
— Разве похлебку из вьюнов сварить?
— Ну, что там, из вьюнов! Если уж варить, так можно кусочек мяса отрезать, поесть как следует. Может, лепешки остались?
— Осталось немного, — ответила она смущенно, пересчитывая глазами присутствующих.
— Ну, так давай, не жалей, мало, что ли, еды под потолком висит!
Ольга порылась под полотенцем на лавке и вытащила несколько плоских, темных лепешек из ржаной муки, замешанной с перетертыми вьюнами. Они быстро поели.
— Ну, за работу!
Ножи с трудом резали жесткую, поросшую щетиной толстую кожу.
— Осторожно, осторожно, в корыто. А это в сени, утром зароем, чтобы никто не увидел. Ну и печенка у него огромная! А это что?
— Легкие. И сердце. Гляди-ка, Павел, как ты ему ловко попал, в самую середку заехал.
Окровавленными по локти руками они рылись во внутренностях животного. Ольга светила.
— Окорока будут, как у вола.
— Сало-то, смотрите, в ладонь толщиной!
— На неделю еды хватит.
— На неделю? И в две недели не сожрешь, не бойся!
Они работали до самого утра. Мать зашевелилась на печке, но скользнула глазами по избе, словно ничего особенного тут не происходило. Зато Семка, Владек и Петрик торопливо сползли с печи и удивленно столпились вокруг наполненного мясом корыта.
— Кабан?
— Да вот, кабан.
— Из лесу?
— Только смотрите, язык держать за зубами! Получите и мяса, и сала, и колбасы, но о кабане ни гу-гу! Никому!
Семка пожал плечами. Что он, не понимает, что ли! И он втянул в ноздри запах из печки, в которой варились обрезки мяса и жира.
— Сейчас получишь, только посолю…
Она наложила мяса в миску, посолила темной крупной солью. Облако пара поднялось к потолку.
Они поели. Ольга положила кусок мяса в отдельную мисочку и поставила возле матери.
— Ну, давайте дальше… Только как днем работать? Увидят, что столько времени дым идет, придет кто-нибудь посмотреть, вот и готова беда!
— Пока не рассвело, надо отнести в сарай, а уж ночью наделаем колбас и всего.
Они заторопились, стали быстро выносить пласты сала, внутренности, большие куски мяса в корыте и складывали их в сарае. Сверху добычу прикрыли тростниковой рогожей и остатками растрепанной соломы, которая валялась еще кое-где по углам.
— Ну, а теперь по домам — и тихо, ша!
Совюк и Кузьма исчезли в редеющем мраке позднего зимнего утра. Совершенно измученный, Павел вскарабкался на печку, от которой так и несло жаром. Он натянул на голову тулуп и уснул. Ольга дала мяукающей кошке вылизать миску, на которой застыл густой жир, убрала на полу все следы ночной работы и пошла к коровам. Семка и Владек пошли с ней, а младший, Петрик, разревелся на пороге сеней — на нем не было ничего, кроме куцей посконной рубашонки, которая круглый год была его единственной одеждой, и мороз сразу ущипнул его железными клещами. Петрик боялся, что те съедят в сарае все, что там спрятано, — мясо, сало, все эти необычайно вкусные вещи, которые случается есть лишь раз в жизни.
— Петрик, иди в избу!
— Не-е! — отчаянно рыдал он.
— Домой, домой, Петрик!
— Не-е-е!
Ольга подбежала к брату и присела перед ним.
— Иди, Петрик, иди. Смотри, какой холод, вон какие у тебя ноги, синие, как у голубя. Иди, в избе тепло, печка горячая.
— А мясо где?
— Мясо? — удивилась Ольга. — Мясо есть, на обед полный горшок сварю.
— Полный горшок?
— Полнехонек! Только иди в избу, а то замерзнешь!
Он, наконец, решился войти в избу, уселся в уголке у печки и стал раскладывать стружки Время от времени мальчик пытался уловить слабеющий запах мяса, который все еще держался в избе.
В полдень Ольга не удержалась и снова наварила мяса. Они уселись вокруг миски и наедались, пьянея от тепла и пищи.
Но вдруг девушка окаменела, не донеся куска до рта. Смертная бледность разлилась по ее лицу. Павел, который сидел спиной к окну, оглянулся.
Ворота сарая были широко распахнуты, и из них как раз выходил комендант Сикора с лесником. Не успела Ольга схватить со стола миску с мясом, как в сенях уже зазвучали шаги.
Тяжелый, жирный запах мяса, запах сытости густым облаком стоял в воздухе. На шестке у печки шипел разлитый жир, маленький Петрик неподвижно застыл с большим куском вареного сала в руке. На полу трудилась над жилами белая кошка. Все в избе пахло кабаном, во весь голос кричало о кабане.
А на пороге стояли комендант Сикора и лесник Постава. За спиной у лесника поблескивало дуло двустволки, длинные светлые усы зловеще шевелились. Они уже были в сарае, уже все видели.
Перед глазами Павла, словно молния, промелькнул образ разъяренного кабана на узкой тропинке в сосняке. Но это к делу не относилось.
Он тяжело поднялся, отложив на лавку мокрую ложку.
Комендант Сикора вздрогнул, когда у крыльца зазвенели бубенчики подъехавших саней. Разумеется, это не кто иной, как мать Людзика.
Он вышел на крыльцо. Из-под тяжелой полости выкарабкалась маленькая увядшая старушка. Сикора удивился, что она так стара. Сколько же лет было этому Людзику? Ведь он был совсем молодой.
Из-под черной старомодной шляпы беспорядочно выбились прядки седых волос. Женщина запуталась в длинной траурной вуали, не могла справиться со старомодной ротондой. Сикоре пришлось почти вынести ее из саней. Она осторожно поднялась по ступенькам на крыльцо. Голова ее дрожала, подергиваемая нервным тиком, и это, видимо, мучило ее. Она все пыталась взять себя в руки и держаться прямо, но голова опять и опять вздрагивала на хрупкой шее.
— Стась?
— Сюда, сюда, — бормотал комендант, открывая дверь и поддерживая ее под локоть, когда она переступала через высокий порог.
— Стась? — переспросила она.
Он толкнул дверь в маленькую комнатку, где лежал Людзик.
Старушка почти побежала и вдруг остановилась. Странным, пискливым, будто глубоко изумленным голосом она в третий раз вопросительно произнесла:
— Стась?
Людзик лежал, вытянувшись, в застегнутом на все пуговицы мундире, с образком в сложенных крестом руках. Раны на голове не было видно — Софье удалось зачесать ему волосы так, чтобы они прикрывали ее. Кровоподтек возле уха был прикрыт веточкой мирта. Лицо спокойно и бледно. Дуги бровей, прямой нос — да, он был хорош собой, этот Людзик, — не мог не сознаться комендант, сердясь на себя, что так некстати думает сейчас о таких вещах.
Мать подошла медленно, словно подкрадываясь. Сикора, нахмурившись, ждал. О боже, вдобавок ко всему еще и это! Сейчас начнутся слезы, рыдания, истерики…
Но старушка не плакала. Она осторожно поправила образок в мертвых руках сына. Темный лик ченстоховской божьей матери на золотом фоне, проникнутый неземным покоем лик глядел откуда-то из потустороннего мира в потусторонний мир. Все понимающий и неумолимый.
Сухие пальцы коснулись зачесанных набок темных волос сына. Комендант испугался. Лицо старухи искривилось странной судорожной усмешкой. Кожа на щеках натянулась, обнажая остатки зубов, у глаз собрались незаметные раньше морщины.
Что-то вроде смеха глухо вырвалось из стиснутого горла. Голова вздрагивала мелкой дрожью, как у игрушечного клоуна.