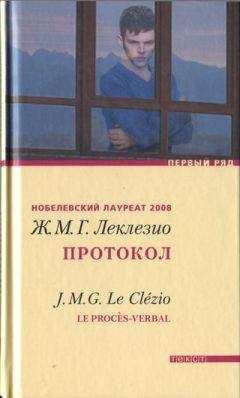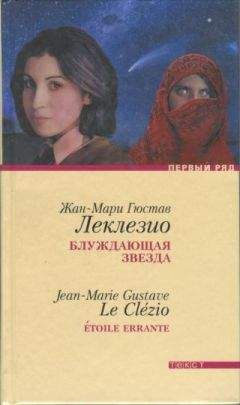Ураган бушует весь день. Вечером мы засыпаем в изнеможении прямо на полу склада под завывания ветра и стоны металлического каркаса здания.
На заре я просыпаюсь от тишины. Ветер снаружи ослаб, но все еще слышен рев бьющегося о рифы моря. Люди сгрудились на площадке перед зданием телеграфа. Приблизившись, я вижу, на что они смотрят: на коралловом барьере, прямо напротив мыса Венеры, виднеются останки потерпевшего кораблекрушение судна. До него от берега не больше мили, отсюда хорошо видны сломанные мачты и развороченный корпус. В сущности, это лишь половина корабля — задранная кверху корма, о которую, вздымая облака пены, в ярости бьются волны. По толпе из уст в уста проносится название, но, когда оно доходит до меня, я его уже и так знаю: «Зета». На корме виднеется старое, привинченное к палубе кресло, в котором сидел когда-то капитан Брадмер. Но что же стало с экипажем? Этого никто не знает. Кораблекрушение произошло ночью.
Я бегом спускаюсь на берег, иду вдоль разоренного, заваленного сучьями и камнями пляжа. Я хочу найти пирогу, кого-нибудь, кто мог бы мне помочь, но все напрасно. На берегу никого нет.
Может, сбегать в Порт-Матюрен за спасательной шлюпкой? Но мое волнение слишком велико, я не могу ждать. Я снимаю одежду и, скользя на камнях, иду навстречу волнам. Море, могучее, страшное, пришло из-за кораллового рифа, вода в нем мутная, как в реке во время половодья. Я гребу против течения, но оно настолько сильное, что я остаюсь на месте. Рев набегающих волн слышится прямо передо мной, я вижу, как в черное небо взлетают столпы пены. До обломков не больше ста метров, острые зубья рифов раскололи шхуну надвое на уровне мачт. Море затопило палубу, заливает пустое кресло. Ближе мне не подплыть, иначе меня может так же размозжить о рифы. Я хочу крикнуть, позвать: «Брадмер!..» Но голос тонет в грохоте волн, я сам себя не слышу! Еще какое-то время я плыву навстречу перехлестывающему через барьер морю. На разбитом судне никаких признаков жизни, будто оно попало сюда несколько веков назад. Холод охватывает меня, сдавливает грудь. Придется бросить эту затею, возвращаться назад. Я отдаюсь во власть волны, и она медленно катит меня вместе с принесенными бурей обломками. Когда я касаюсь берега, то от усталости и отчаяния даже не чувствую, что поранил о камни колено.
К середине дня ветер совсем стихает. Над морем и разоренной землей снова сияет солнце. Все кончено. На грани обморока, шатаясь, я иду обратно в Английскую лощину. У зданий телеграфа опять толпится народ; оправившись от испуга, все галдят, смеются.
Добравшись до Английской лощины, я вижу полное опустошение. Камышовая речка превратилась в бурный поток, с шумом несущий по долине свои грязные воды. Моя хижина исчезла, выдраны с корнем деревья, пальмы вакоа, от огорода нет и следа. На дне долины — ничего, кроме изрытой дождем земли и обнажившихся базальтовых глыб. Все, что оставалось в хижине, пропало: одежда, кастрюли, но самое главное — теодолит и большая часть относящихся к кладу документов. Конец света.
Быстро темнеет, а я все хожу по Английской лощине в надежде отыскать хоть что-нибудь, что уцелело после урагана. Я осматриваю каждое место, но всё вокруг изменилось до неузнаваемости. Где нагромождение камней, повторяющее формой Южный Треугольник? А эти базальтовые глыбы у осыпи — неужели это те самые, что привели меня когда-то к «проушинам»? Сумерки цвета меди, цвета расплавленного металла опускаются на долину. Впервые в небе над Лощиной не видно птиц, возвращающихся в свои убежища на островах. Где они? Сколько их выжило после урагана? Опять же впервые на дне долины появились крысы, изгнанные из своих жилищ потоками грязи. Они скачут в полутьме вокруг меня, и я пугаюсь их писка.
В центре долины, у вышедшей из берегов реки, я вижу базальтовый столб, на котором перед отправкой на войну высек линию ост-вест и два перевернутых треугольника «проушин», складывающихся в звезду Соломона. Столб устоял под ветром и дождем, только глубже ушел в землю, и теперь, посреди этого разгрома, выглядит памятником начала рода человеческого. Кто найдет его когда-нибудь? Кто поймет, что он означает? Английская лощина снова скрыла свою тайну, затворила двери, на мгновение приоткрывшиеся мне, мне одному. На восточном склоне долины, там, куда падают лучи заходящего солнца, я ищу вход в расселину. Но, подойдя ближе, вижу, что под натиском стихии часть утеса обрушилась, завалив проход. Хлынувший из оврага грязевой поток снес все на своем пути, вырвав с корнем старый тамаринд, в мягкой тени которого мне было так хорошо. Через год от его ствола не останется ничего, кроме холмика, заросшего колючим кустарником.
Долго, до глубокой ночи, слушаю я звуки долины. Шум реки, несущей в бурных водах землю и деревья, журчание воды на сланцевых утесах, и вдали — непрестанный рокот моря.
Оставшиеся до отъезда два дня я любуюсь долиной. Каждое утро на рассвете покидаю узкую комнатушку в китайской гостинице и иду к Командорской Вышке. Но вниз я не спускаюсь. Я остаюсь среди зарослей, около полуразрушенной дозорной башни, и смотрю, смотрю на длинную, черно-красную долину, в которой больше не осталось моих следов. В море, нереальном, словно подвешенном к коралловому барьеру, принимает на себя удары волн неподвижная корма «Зеты». Я думаю о капитане Брадмере, тело которого так и не нашли. Говорят, он один оставался на корабле и даже не попытался спастись.
Этот последний образ Родригеса я уношу с собой, стоя на палубе новенького «Фрегата», когда тот, пыхтя машинами и содрогаясь всем своим металлическим корпусом, выходит в открытое море. Напротив высоких оголившихся гор, сверкающих в лучах утреннего солнца, навечно зависли над пучиной разбитые останки «Зеты», словно выброшенный на берег остов кита, над которым кружат морские птицы.
После моего возвращения в Форест-Сайде стало странно и тихо. Старый дом — барак, как называет его Лора, — похож на протекающую посудину: его латают худо-бедно при помощи кусков жести и картона, но все равно во все дыры течет вода. Влажность и гниль скоро добьют его. Мам больше не двигается, не говорит, почти ничего не ест. Я восхищаюсь мужеством Лоры, которая не отходит от нее ни днем, ни ночью. У меня нет сил на это. Я брожу по тропинкам среди тростников в районе Пятнадцати Кантонов, там, откуда видны вершины Трех Сосцов и другая половина небосвода.
Надо работать, и, по настоянию Лоры, я рискнул снова явиться в контору В. В. Уэста, где заправляет мой кузен Фердинан. Дядя Людовик состарился, отошел от дел и живет теперь в доме, который построил для себя неподалеку от Йемена, там, где начинались наши земли. Фердинан принял меня с презрительной иронией, от которой прежде я пришел бы в бешенство. Теперь же мне все равно. Когда он сказал мне:
— Так, значит, вы решили вернуться на места, где..
Я закончил за него:
— …бывал когда-то.
И даже, когда он заговорил о «героях войны, которых теперь пруд пруди», я и бровью не повел. В довершение всего он предложил мне место надсмотрщика на их плантациях в Медине, и я вынужден был согласиться. Вот я уже и сирдар!
Я живу в хижине неподалеку от Бамбу и каждое утро объезжаю верхом плантации, наблюдая за работами. Днем, среди шума и гама сахароварни, я слежу за разгрузкой и отжимом тростника, проверяю качество сиропа. Работа изматывает меня, но я все равно предпочитаю ее сидению в душной конторе В. В. Уэста. Управляющий сахароварней — англичанин по фамилии Пиллинг, присланный с Сейшел Сельскохозяйственной компанией, — сначала был явно настроен против меня Фердинаном. Но он оказался человеком справедливым, и теперь у нас прекрасные отношения. Он часто говорит о Шамареле, куда надеется уехать. Если его переведут туда, он обещает и мне подыскать место.
Йемен — это одиночество. Каждое утро по бескрайним полям идут работники и женщины в ганни — словно наступающая армия оборванцев. Звук тесаков сливается в один ритмичный гул. По краям полей, со стороны Валхаллы, люди дробят тяжелые камни, складывают из них пирамиды. Обливаясь потом, под гул тесаков и лай сирдаров, я еду через плантации к югу. На Родригесе солнце пьянило меня, высекая искры на камнях, на пальмах вакоа. Здесь же, на темно-зеленых просторах тростниковых полей, зной — лишь разновидность одиночества.
Я думаю о Мананаве, единственном, чего еще не лишился. Она живет во мне с давних пор, с тех самых времен, когда мы с Дени ходили к входу в ущелья. Часто, проезжая верхом по тропинкам среди тростников, я оглядываюсь на юг, представляя себе тайники у истока рек. Я знаю, что когда-нибудь обязательно поеду туда.
Сегодня я видел Уму.
В верхней части плантаций началась рубка тростника. Работники, мужчины и женщины, стекаются со всего побережья с озабоченным видом, потому что им известно: на работу возьмут лишь треть из них. Остальные вынуждены будут вернуться обратно, к своей голодной жизни.