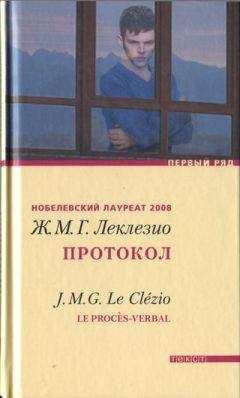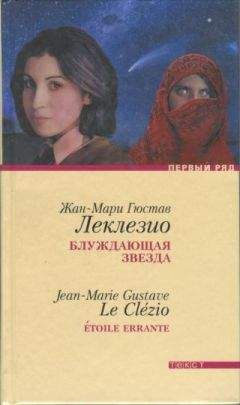Больше мы ничего не говорим. Лежим рядом, тесно прижавшись друг к другу, чтобы не чувствовать ночного холода. Мы слушаем море и шум ветра в иглах казуарин, потому что в мире нет ничего, кроме этого.
Над Тремя Сосцами встает солнце. Как прежде, в ту пору, когда мы бродили здесь вместе с Дени, я вижу сине-черные вулканы на фоне наполненного светом неба. Мне всегда нравилась — я помню это — южная вершина, похожая на клык, — ось, вокруг которой вращаются луна и солнце.
Какое-то время я сидел на песке у лагуны Барашуа, глядя на спокойное течение реки. У самой поверхности воды медленно пролетали навстречу рыбацким пирогам морские птицы: желтые цапли, бакланы, сварливые чайки. Затем медленно, осторожно, словно ступая по минному полю, я поднялся вверх по реке Букан до Панона. Вдали сквозь листву видна уже дымящаяся труба Йемена, я чувствую восхитительный запах тростникового сока. Чуть выше, на другом берегу реки, — новый белоснежный дом дяди Людовика.
Где-то внутри меня притаилась боль, ведь я знаю, где нахожусь. Здесь начинался наш сад, а чуть выше, в конце аллеи, я мог бы увидеть наш дом, его сверкающую на солнце голубую кровлю. Я пробираюсь через высокую траву, меня царапают колючие кустарники. Ничего тут больше не увидеть. Все уничтожено, сожжено, разорено за столько лет. Может, здесь начиналась наша веранда? Мне кажется, я узнаю это дерево и то. Но тут же я замечаю с десяток таких же деревьев — тамариндов, казуарин, манго. Я спотыкаюсь о незнакомые камни, проваливаюсь ногой в ямы. Неужели мы и правда здесь жили? Или это было в другом мире?
Быстро, словно в лихорадке, я иду дальше, кровь стучит у меня в висках. Мне хочется найти хоть что-то, хоть кусочек нашей земли. Когда я сказал об этом Мам, у нее заблестели глаза, я уверен в этом. Я крепко сжимал ее руку, чтобы передать ей хоть частицу своей жизни, своей силы. Я рассказывал ей обо всем этом, словно наш дом все еще существовал. Я говорил с ней так, будто ничто на свете не кончается, будто утраченные годы еще могут вернуться к нам в тиши густого сада, в декабре, когда мы с Лорой слушали, как она читает нам певучим голосом Священную историю.
Это его, этот голос, хочу я услышать сейчас, здесь, в диких зарослях, среди нагромождения черных камней, бывших когда-то фундаментом нашего дома. Взбираясь на холмы, я вдруг замечаю овраг, где мы провели столько часов, сидя на толстом суку старого дерева, глядя на бегущий внизу безымянный ручей. Я с трудом узнаю его. Если все вокруг заросло бурьяном и кустарниками, тут, наоборот, все голо, выжжено, словно после пожара. Сердце мое бешено колотится: ведь это были наши с Лорой владения, наше секретное место. А дерево, наше дерево, где оно? Мне кажется, я узнаю его старый почерневший ствол с обломанными ветками и жидкой листвой. Какое же оно уродливое, маленькое — непонятно, как мы вообще могли забираться на него. Я наклоняюсь над оврагом и вижу тот самый сук, на котором мы лежали когда-то: теперь он похож на вытянутую над пропастью иссохшую руку. Внизу, по дну оврага, среди обломанных веток, кусков железа, старых досок, течет вода. Во время сноса нашего дома сюда сваливали мусор.
Я ничего не стал рассказывать Мам. Все это больше не имеет значения. Я рассказал ей о том, что было раньше, что было реальнее этой разоренной земли. Я рассказывал ей о том, что она любила больше всего, о саде, заросшем гибискусом, пуансеттией, каллами и ее любимыми белыми орхидеями. Я рассказывал о большом овальном бассейне перед верандой, где так нежно пели жабы. Я рассказывал ей о том, что любил я сам, чего никогда не забуду, о ее голосе, когда она читала нам стихи или молилась на ночь. Об аллее, по которой мы медленно шли все вместе, чтобы наблюдать за звездами и слушать объяснения отца.
Я оставался там до темноты, бродя по зарослям в поисках следов, знаков, в поисках запахов, воспоминаний. Но земля там разорена и иссушена засухой, оросительные каналы давным-давно засорились и высохли. Оставшиеся деревья выжжены солнцем. Нет больше ни манговых, ни хлебных деревьев, ни мушмулы. Остались лишь тамаринды, высокие и тощие, как на Родригесе, да баньяны, которые никогда не умирают. Вот бы только отыскать дерево чалта — древо добра и зла. Мне кажется, отыщи я его, что-то из прошлого будет спасено. В моей памяти оно стояло в самом конце сада, на границе невозделанных земель, там, где начиналась дорога в горы, к ущельям Ривьер-Нуара. Я иду через заросли и торопливо поднимаюсь в верхнюю часть участка, откуда видны Красноземельная гора и Бриз-Фер. И вдруг прямо перед собой, среди зарослей, я вижу его: оно еще больше, чем раньше, и его темная листва похожа на сумрачное озеро. Я подхожу ближе и узнаю его запах, нежный, волнующий аромат, который кружил нам голову, когда мы взбирались на эти ветви. Оно выстояло, не погибло. Все это время, что я жил вдали от него, вдали от этой спасительной листвы, для дерева — лишь мгновение. Циклоны, засухи, пожары, люди, разрушившие наш дом, вытоптавшие цветы нашего сада, обрекшие на смерть бассейн и каналы, — все это прошло. А оно осталось тем же древом добра и зла, всезнающим, всевидящим. Я поискал метки, сделанные нами с Лорой, когда мы вырезали ножом на стволе наши имена и помечали рост. Поискал рану, оставшуюся на месте оторванной циклоном ветки. Тень его густа и нежна, запах пьянит. Время прекратило здесь свой бег. Воздух вокруг звенит насекомыми и птичьими голосами, земля у корней влажна и полна жизни.
В его мире нет ни голода, ни горя. И войны нет. Силой своих ветвей дерево чалта держит остальной мир на отдалении. Наш дом разрушен, умер наш отец, но не надо отчаиваться, ведь я отыскал дерево чалта. Здесь под ним я и усну. Снаружи надвигается тьма, скрывает из виду горы. Все, что я делал, все, что искал, я делал и искал только для того, чтобы прийти сюда, к входу в Мананаву.
Сколько времени прошло с того дня, как умерла Мам? Это было вчера, позавчера — не помню. Несколько дней и ночей мы провели рядом с ней, сменяя друг друга: я — днем, Лора — ночью, чтобы она всегда могла сжимать худыми пальцами чью-то руку. Каждый день я рассказываю ей одну и ту же историю, историю Букана, где все по-прежнему ново и прекрасно, где сверкает лазурным блеском голубая крыша. Это несуществующая страна, она жива лишь для нас троих. И я думаю, что, разговаривая о ней, мы получаем частицу ее бессмертия, сплачивающего нас перед лицом близкой смерти.
Лора ничего не говорит. Напротив, она упрямо молчалива, так она борется со смертью. Я привез ей ветку дерева чалта, и когда протянул ее, то увидел, что Лора ничего не забыла. Ее глаза заблестели от радости, когда она взяла ветку в руки и положила ее на столик у изголовья, вернее, не положила, а небрежно бросила, ибо так она поступает с предметами, которые любит.
А потом было то страшное утро, когда Лора разбудила меня, стоя у моей складной кровати, на которой я сплю в пустой столовой. Помню ее спутанные волосы и этот жесткий, сердитый огонек в глазах.
«Мам умерла».
Это все, что она сказала, и я пошел за ней, еще сонный, в темную комнату, где горел ночник. Я посмотрел на Мам, на ее худое, правильное лицо, на прекрасные волосы, разметавшиеся по белоснежной подушке. Лора пошла лечь на складную кровать и тут же заснула, положив под щеку сложенные ладони. А я, ошарашенный, ничего не понимающий, остался один в темной комнате рядом с Мам, сидеть на скрипучем стуле перед дрожащим ночником, готовый в любой момент снова рассказывать вполголоса историю о большом саде, где все вместе мы шли вечером открывать звезды, об аллеях, усеянных стручками тамариндов и лепестками гибискусов, о тоненьком пении мошкары, танцующей у наших волос, и о том счастье, которое охватывало нас, когда, оглядываясь, мы видели в синей ночи большое, ярко освещенное окно кабинета, где отец курил, рассматривая свои морские карты.
И было другое утро, дождливое, на кладбище рядом с Бигара, когда я слушал, как падают на гроб комья земли, и смотрел на бледное лицо Лоры, на ее волосы, повязанные черной шалью Мам, на капли воды, текущие по ее щекам, словно слезы.
Сколько времени прошло с тех пор, как с нами нет Мам? Я не могу в это поверить. Всё кончено, никогда больше не будет ее голоса, звучащего в полутьме веранды, ни запаха, ни взгляда. После смерти отца я словно погрузился в какое-то забытье, навсегда оторвавшее меня от моей силы, моей молодости, забытье, с которым я не желаю мириться. Никаких кладов, никаких сокровищ не бывает. Это «золото дураков», которое показывали мне чернокожие золотоискатели, когда я только-только приехал в Порт-Матюрен.
Мы остались с Лорой одни в пустом и холодном бараке, за закрытыми ставнями. Ночник в комнате Мам погас, и я зажег новый на столике у изголовья, среди ненужных склянок, рядом с кроватью, покрытой мертвенно-белыми простынями.