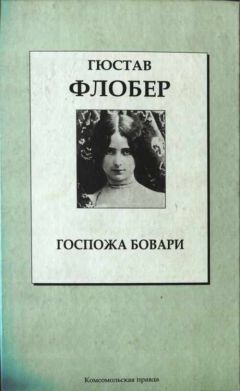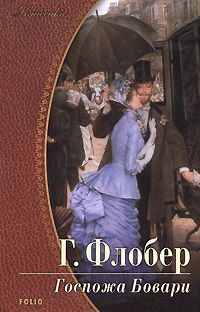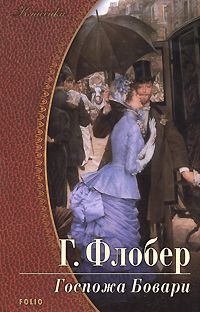— Сию минуту.
— Военная хитрость, — сказал аптекарь, завидя Леона. — Я решил положить конец этому свиданию, которое, как мне казалось, было вам неприятно. Пойдемте к Бриду выпить стаканчик прохладительного.
Леон клялся, что ему необходимо вернуться в контору. Тогда аптекарь начал отпускать шутки о канцелярщине и крючкотворстве.
— Да бросьте же хоть на часок всех ваших Куяциев и Бартоло, черт бы их побрал! Вы не на цепь посажены! Будьте молодцом! Пойдемте к Бриду, увидите его собаку. Это очень любопытно.
Клерк упорствовал; тогда он сказал:
— Ну так я пойду с вами. Подожду вас, почитаю газету, наведу справки в Своде законов.
Леон, выведенный из душевного равновесия гневом Эммы, болтовнёю Гомэ, а быть может, и сытным завтраком, стоял в нерешительности, словно во власти аптекаря, твердившего:
— Пойдемте к Бриду! Это в двух шагах отсюда, на улице Мальпалю.
Из трусости, из глупости, из того темного чувства, которое толкает нас к неприятным и несвойственным нам поступкам, он дал себя увлечь к Бриду. Они застали его на маленьком дворике, наблюдающим, как трое молодцов, запыхавшись, вертели колесо машины для выделки сельтерской воды. Гомэ подал им несколько советов, обнял Бриду, выпили по стакану лимонада. Леон раз двадцать порывался уйти, но аптекарь удерживал его за руку, твердя:
— Сию минуту! Я выйду вместе с вами. Мы пойдем в «Руанский Маяк» повидаться там со всеми. Я вас познакомлю с Томассеном.
Наконец Леону удалось от него отделаться, и он сломя голову прибежал в отель. Эммы там уже не было.
Она только что уехала, взбешенная. Она его ненавидела. Нарушение честного слова, когда дело шло о свидании, казалось ей оскорблением, и она отыскивала дополнительные поводы к разрыву: он не способен к героизму, слаб, пошловат, мягок и малодушен, как женщина, к тому же скуп и труслив.
Наконец, успокоившись, она стала думать, что, вероятно, его оклеветала. Но изображение в невыгодном свете тех, кого мы любим, все же нас незаметно от них отдаляет. Нельзя касаться идолов, их позолота остается на пальцах.
Чаще стали они с тех пор говорить о вещах, безразличных для их любви; и в письмах Эммы речь пошла о цветах, о стихах, о луне, и звездах — невинные средства ослабевающей страсти, хватающейся для своего оживления за внешние приманки. Каждая предстоящая поездка сулила Эмме глубокое блаженство; но потом она признавалась себе самой, что не пережила ничего необычайного. Это разочарование вскоре изглаживалось новою надеждой; она возвращалась к любовнику еще более распаленною, более жадною. Она грубо раздевалась, рвала тонкие шнурки корсета, свистевшие словно змеи, скользящие вокруг ее бедер. Шла босая, на цыпочках, взглянуть еще раз, заперта ли дверь, потом вдруг одним движением роняла всю одежду и, бледная, молчаливая, важная, с долгою судорогой, обрушивалась к нему на грудь.
Между тем на этом лбу, покрытом холодными каплями, на этих бессвязно лепечущих губах, в этих блуждающих взорах, в тесном охвате этих рук было что-то крайнее, роковое, неуловимо зловещее, тихо прокравшееся, мнилось Леону, между ними, с тем чтоб их разлучить.
Он не смел предлагать ей вопросов; но, видя ее опытность, он говорил себе, что она прошла, должно быть, чрез все испытания мук и наслаждения. То, что в ней пленяло его прежде, теперь неопределенно страшило. И в нем пробуждался мятеж против все большего поглощения его личности ее чарами. Он не мог простить Эмме ее вечной победы. Ему хотелось не любить ее, но один звук ее шагов уже его обессиливал, как пьяницу запах вина.
Она не переставала, правда, расточать ему знаки внимания, начиная с лакомств и кончая туалетными тонкостями и томными взглядами. Она на груди привозила из Ионвиля розы, чтобы бросать их ему в лицо, заботилась о его здоровье, давала ему советы, как себя держать, и, чтобы прочнее привязать его — в надежде на небесную помощь, — надела ему на шею образок Божией Матери. Расспрашивала его, как любящая мать, о его товарищах. Говорила ему:
— Не видайся с ними, не ходи никуда, думай только о нашем счастье, люби меня!
Ей бы хотелось следить за всей его жизнью и пришла даже в голову мысль — не подослать ли кого-нибудь, кто бы пошпионил за ним на улице. Возле гостиницы всегда торчал какой-то бродяга, пристававший к прохожим: этот, наверное, не отказался бы… Но ее гордость восстала против этого замысла.
«Ах, не все ли равно, если он меня обманывает! Мне какое дело? Разве я им дорожу?»
Раз, когда они расстались рано и она возвращалась одна по бульвару, она вдруг увидела стены своего монастыря; села на скамейку в тени вязов. Какое спокойствие было в ее душе в те дни! Как завидовала она испытавшим любовь — то неизъяснимое чувство, которое она старалась угадать по книгам!
Первые месяцы ее замужества, прогулки верхом в лесу, вальс с виконтом, пение Лагарди — все снова пронеслось перед ее глазами… И Леон вдруг показался ей столь же далеким, как и другие.
«Однако же я его люблю!» — говорила она себе.
Не все ли равно? Она не знает, да и никогда не знала счастья. Откуда эта скудость жизни, это мгновенное разложение всего, на что она думает опереться?.. Но если есть где-нибудь человек сильный и прекрасный, с душою мошной, возвышенной и нежно-отзывчивой, с сердцем поэта и ликом ангела, душа — меднозвучная лира, возносящая к небу свои мелодические вздохи, о, ужели не суждено ей встретить такое существо в жизни? Роковая невозможность! Нет, ничто на свете недостойно поисков: все солжет! Каждая улыбка скрывает зевоту скуки, каждая радость таит проклятие, каждая услада несет в себе зародыш отвращения, и самые жаркие поцелуи оставляют устам лишь неутолимую жажду высшего сладострастия.
Металлический стон пронесся в воздухе, и четыре мерных удара раздались с колокольни монастыря. Четыре часа. А ей казалось, что она сидит на этой скамейке целую вечность. Но громадная сложность страстей может вместиться в одну минуту, как людская толпа умещается на малом пространстве. Эмма жила поглощенная этими страстями и о деньгах заботилась менее, чем любая эрцгерцогиня.
Однажды к ней явился, однако, тщедушный, краснолицый и лысый человек с заявлением, что его прислал Венсар из Руана. Он вынул булавки, которыми был заколот боковой карман его длинного зеленого сюртука, воткнул их в рукав и учтиво подал ей бумагу.
То был подписанный ею вексель на семьсот франков, который Лере, невзирая на все ее просьбы, передал в распоряжение Венсара.
Она послала за Лере служанку. Он отказался прийти.
Тогда незнакомец, продолжая стоять и с любопытством озираться, крадучись направо и налево из-под густых белокурых бровей, простодушно спросил:
— Какой ответ прикажете передать господину Венсару?
— Скажите ему, — проговорила Эмма, — скажите, что денег сейчас у меня нет… На будущей неделе я получу… Пусть подождет… Да, на будущей неделе.
Человек удалился, не сказав ни слова.
Но на другой день, в полдень, ей принесли исполнительный лист; вид гербовой бумаги, на которой несколько раз крупными буквами было выведено: «Аран, пристав Бюши», так испугал ее, что она со всех ног бросилась к торговцу материями.
Лере в своей лавке завязывал какой-то сверток.
— Ваш покорный слуга! — сказал он. — Что прикажете?
Тем временем он продолжал свое занятие при помощи девочки лет тринадцати, слегка горбатой, которая совмещала в его доме должности приказчика и кухарки.
Потом, громко стуча деревянными башмаками, он поднялся, сопровождаемый барыней, по лестнице и провел ее в тесный кабинет, где на неуклюжем бюро соснового дерева стояли под замком за поперечной железной перекладиной несколько толстых приходно-расходных книг. У стены, под кусками ситца, виднелся денежный сундук, таких, однако, размеров, что в нем, очевидно, должны были храниться не одни ценные бумаги. В самом деле, Лере выдавал и ссуды под залог вещей, в этот сундук спрятал он когда-то и золотую цепочку госпожи Бовари, и серьги бедняка Телье, который, будучи наконец вынужден продать все имущество, приобрел плохенькую мелочную лавчонку в Кенкампуа, где и умирал от своего катара посреди груды свечек менее желтых, чем его лицо. Лере уселся в широкое плетеное кресло и сказал:
— Что нового?
— Вот. — И она протянула ему бумагу.
— Ну, что же я могу тут поделать?
Она вспылила, напомнила его обещание, что он не пустит ее векселей в оборот; он не отрицал этого.
— Но я сам был вынужден, ко мне пристали с ножом к горлу.
— Что же теперь будет? — спросила она.
— О, все это очень просто: решение суда, а потом опись и наложение ареста на движимое имущество… Тю-тю!
Эмма едва удержалась, чтобы не дать ему пощечину. Она кротко спросила, нет ли возможности успокоить господина Венсара.
— Да, подите-ка! Успокойте Венсара! Вы его не знаете! Он свирепей араба.