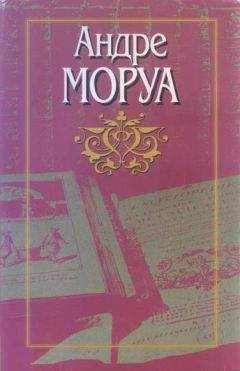— Ну и что с того? — спросил полковник.
— Не кажется ли вам, сэр, что умственное развитие…
— Ненавижу интеллектуалов… Уж вы меня, пожалуйста, простите, мессиу.
— Что вы, сэр, это очень мило сказано, — заметил Орель.
— Рад, что вы это восприняли именно так, — буркнул полковник себе в усы.
Он говорил редко и всегда короткими фразами, но Орель научился ценить его суховатый, резкий юмор и обезоруживающую улыбку, расцветавшую порой на его суровом лице.
— Но не кажется ли вам, Орель, — вновь вступил в разговор Паркер, — что у вас принято ценить интеллект выше его истинной ценности? В жизни, несомненно, полезнее уметь боксировать, нежели писать. Вам хотелось бы, чтобы в Итоне больше всех почитали первых учеников? Это все равно что потребовать от тренера беговых рысаков переключиться на цирковых лошадок. В колледж мы поступаем не ради образования, а чтобы проникнуться там предрассудками нашего класса, ибо без них мы были бы и опасны и несчастливы. Мы, как те молодые персы, о которых пишет Геродот[8]: до двадцатилетнего возраста их обучали лишь трем наукам — верховой езде, стрельбе из лука и правдивости.
— Пусть так, — сказал Орель, — но согласитесь, майор, ведь вы, англичане, совершенно непредсказуемы. Презирая «первых учеников», вы, однако же, цитируете Геродота. Больше того, на днях я застал вас на месте преступления: уединившись в своей обители, вы читали перевод из Ксенофонта[9]. Уверяю вас, мало кто из французов…
— Это совсем другое дело, — перебил его майор. — Греки и римляне интересуют нас не как объекты изучения, а просто как наши предки и как спортсмены. Мы — прямые наследники греческого образа жизни и Римской империи. Ксенофонт забавляет меня: он — типичнейший образец безупречного британского джентльмена, великий рассказчик про псовую охоту, рыбную ловлю и войну. Когда я читаю у Цицерона: «Скандал в высшей колониальной администрации. Тяжкие обвинения против сэра Марка Варрона, генерал-губернатора Сицилии», то, как вы сами понимаете, я воспринимаю это как некую давнюю семейную историю. А кем, скажите на милость, был ваш Алкивиад[10], если не Уинстоном Черчиллем? Правда, без шляпы или котелка…
Окрестный пейзаж радовал глаз: Кошачья гора, Красная гора, Черная гора… Своими плавными очертаниями они как бы окаймляли недвижные и тяжелые облака, словно написанные кистью голландского мастера. Крестьянские дома под соломенными крышами, отполированными временем, казалось, сливались с соседними полями: их выцветшая за годы кирпичная кладка приняла оттенок желтоватой гончарной глины. И только серые ставни, обведенные зеленой каймой, оживляли и очеловечивали это царство плодородных земельных угодий.
Кончиком стека полковник указал на совсем еще свежую воронку от снаряда, но майор Паркер, упорный во всем, продолжал рассуждать на любимую тему:
— Самая большая служба, которую нам сослужил спорт, как раз в том и состоит, что он предохраняет нас от интеллектуальной культуры. К счастью, у нас нет времени делать все, что захочется: гольф и теннис исключают чтение. Мы глупы…
— Какое, однако, кокетство, майор, — не удержался Орель.
— Да, мы глупы! — энергично повторил майор Паркер, не терпевший возражений. — А глупость — довольно большая сила. Когда нам угрожает опасность, мы не замечаем ее, ибо мало размышляем, благодаря чему сохраняем спокойствие и почти всегда с честью выходим из любого положения.
— Всегда! — с чисто шотландской краткостью поправил его полковник Брэмбл.
И Орель, легко перепрыгивая через гребни глубоких борозд и не отставая от своих высоких спутников, яснее чем когда-либо понял, что эта война закончится хорошо.
— Уберите со стола, — сказал полковник Брэмбл ординарцам. — Нам ром, лимон, сахар и чтобы все время был кипяток… Кроме того, скажите дневальному — пусть принесет мне граммофон и ящик с пластинками.
Этот граммофон — подарок какой-то пожилой патриотки подразделению хайлендеров — был предметом гордости полковника. Он распорядился постоянно возить его за собой, крайне бережно обращался с ним и каждый месяц добывал новые пластинки.
— Месье, — сказал он Орелю, — что желаете послушать: «Бинг бойз», вальс «Судьба» или Карузо?
Майор Паркер и доктор О’Грэйди уже давно торжественно предали Эдисона[11] анафеме; падре воззрился в небо.
— Все, что вам угодно, сэр, — сказал Орель, — но только не Карузо.
— Почему же? — удивился полковник. — Прекрасная пластинка. Стоит двадцать два шиллинга. Но сначала я вам дам послушать мою дорогую миссис Финци-Магрини. Ария из «Тоски». Доктор, пожалуйста, поставьте пластинку… Зрение у меня не из лучших… Скорость шестьдесят один… и, ради всего святого, не поцарапайте ее!
Он уселся на ящик из-под галет, удобно прислонился к перегородке из натянутой мешковины и закрыл глаза. Черты его сурового лица разгладились.
Падре и доктор затеяли партию в шахматы. Майор Паркер заполнял для штаба бригады какие-то длинные печатные вопросники. Над недалеким леском, сплошь искореженным осколками от снарядов, в голубом небе вокруг вражеского аэроплана вспыхивали облачка белоснежного дыма. Перед рощей раскинулось бледно-зеленое озерко, окаймленное вереском. Орель принялся писать письмо.
— Падре, — сказал доктор, — если вы завтра поедете в дивизию, скажите — пусть пришлют накидки для трупов бошей. Видели труп, который мы захоронили сегодня утром? Крысы наполовину сожрали его. Это просто неприлично… Шах королю…
— Да, — сказал падре. — И что самое любопытное — они всегда начинают с носа!..
Английская батарея тяжелой артиллерии стала обстреливать передний край немцев. Лицо падре расплылось в широкой улыбке.
— Зададут им перцу сегодня, не обрадуются! — проговорил он с явным удовольствием.
— Падре, — сказал доктор, — разве вы не проповедуете религию мира и любви?
— My boy[12], Господь сказал, что мы должны любить людей. Но он никогда не говорил, что мы должны любить немцев… Беру вашего коня.
Преподобный Макайвор, старый армейский священник, с лицом, донельзя загоревшим под колониальным солнцем, относился к этой боевой и горестной жизни с прямо-таки детской восторженностью. Когда солдаты находились в окопах, он каждое утро навещал их, раздавал сборники песнопений и пачки сигарет, которыми были набиты его карманы. В ближнем тылу он упражнялся в метании гранат и горько сожалел, что сан запрещает ему поражать человеческие мишени.
Майор Паркер внезапно прервал свой труд и начал на чем свет стоит проклинать штабное офицерье с его золочеными козырьками и несуразными вопросниками.
— Однажды, когда я служил в Гималаях, в Читрале[13], — сказал он, — какой-то большой чин, находившийся от нас далеко в тылу, поставил перед нами совершенно бредовую учебную задачу, согласно которой в числе прочего наша артиллерия должна была преодолеть горную теснину между известковыми скалами, где с трудом мог бы протиснуться только очень тощий человек. Я дал ответную телеграмму: «Задание получено, немедленно вышлите сто бочонков уксуса». Из штаба мне вежливо ответили: «Просьба показаться начальнику медицинской службы для проверки ваших умственных способностей». Я им вторую телеграмму: «Перечитайте историю походов Ганнибала»[14].
— Вы в самом деле послали такую телеграмму? — спросил Орель. — Во французской армии вы предстали бы перед военным трибуналом.
— Все дело в том, — ответил майор, — что оба наши народа по-разному представляют себе свободу… Для нас право на юмор, право на занятия спортом и право первородства считаются «неотъемлемыми правами человека».
— В штабе бригады, — сказал падре, — есть капитан, которому, вероятно, именно вы преподали урок по части военной переписки. Недавно, не имея сведений об одном из моих молодых капелланов, покинувшем нас месяц с лишним тому, я обратился в бригаду со следующей запиской: «Священник Карлейль был эвакуирован 12 сентября; хотелось бы знать, поправился ли он и получил ли новое назначение». Ответ из госпиталя гласил: «1) На стационарном излечении. 2) Последующее назначение неизвестно». Офицер из штаба бригады сделал следующую приписку: «Неясно, подразумевает ли второй пункт воинскую часть, куда, возможно, будет направлен преподобный отец Карлейль, или же место его вечного покоя».
Итальянская ария завершилась триумфальными руладами.
— Какой голос! — вымолвил полковник и нехотя приоткрыл веки. — А теперь, месье, я вам сыграю вальс «Судьба».
Где-то невдалеке угадывались вспышки мгновенно взлетающих и медленно опускающихся осветительных ракет. Падре и доктор все еще толковали о трупах и осторожно переставляли маленькие шахматные фигурки из слоновой кости; грохот орудий и стрекот пулеметов, нарушая сладострастный ритм вальса, сливались с ним в некую фантастическую симфонию, и Орель увлеченно вслушивался в нее. Он продолжал писать письмо, составленное из легких стихов.