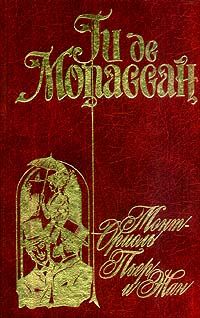Вначале преимущество было за Пьером. Стиснув зубы, нахмурив лоб, вытянув ноги, он греб, судорожно сжимая обеими руками весло, так что оно гнулось во всю длину при каждом рывке и «Жемчужину» относило к берегу. Ролан-отец, предоставив всю заднюю скамью дамам, сидел на носу лодки и, срывая голос, командовал: «Первый, легче; второй, приналяг?» Но первый удваивал рвение, а второй никак не мог подладиться под него в этой беспорядочной гребле.
Наконец капитан скомандовал: «Стоп!» Оба весла одновременно поднялись, и затем Жан, по приказанию отца, несколько минут греб один. Теперь он взял верх, и преимущество так и осталось за ним; он оживился, разгорячился, а Пьер, выдохшийся, обессиленный слишком большим напряжением, начал задыхаться и не поспевал за братом. Четыре раза подряд Ролан-отец приказывал остановиться, чтобы дать старшему сыну передохнуть и выправить лодку. И каждый раз Пьер, побледневший, весь в поту, чувствуя свое унижение, говорил со злостью:
— Не знаю, что со мной, у меня сердечная спазма. Начал так хорошо, а теперь просто руки отваливаются.
— Хочешь, я буду грести обоими веслами? — спрашивал Жан.
— Нет, спасибо, сейчас пройдет.
Госпожа Ролан говорила с досадой:
— Послушай, Пьер, какой смысл упрямиться? Ведь ты не ребенок.
Но он пожимал плечами и продолжал грести.
Госпожа Роземильи, казалось, ничего не видела, не понимала, не слышала. Ее белокурая головка при каждом толчке откидывалась назад быстрым, красивым движением, и на ее висках разлетались завитки волос.
Но вот Ролан воскликнул: «Смотрите-ка, нас нагоняет «Принц Альберт»!» Все оглянулись. Длинный низкий пароход из Саутгемптона приближался полным ходом; у него были две наклоненные назад трубы, желтые, круглые, как щеки, кожухи над колесами, а над переполненной пассажирами палубой реяли раскрытые зонтики. Колеса быстро вращались, с шумом вспенивая воду, и казалось, что это гонец, который спешит изо всех сил; прямой нос рассекал поверхность моря, вздымая две тонкие и прозрачные струи, скользившие вдоль бортов.
Когда «Принц Альберт» приблизился к «Жемчужине», старик Ролан приподнял шляпу, дамы замахали платочками, и несколько зонтиков, колыхнувшись, ответили на это приветствие; затем судно удалилось, оставив за собой на ровной и блестящей поверхности моря легкую зыбь.
Видны были и другие корабли, окутанные клубами дыма, стремившиеся со всех сторон к короткому белому молу, за которым, словно в пасти, они исчезали один за другим. И рыбачьи лодки, и большие парусники с легкими мачтами, скользящие на фоне неба, влекомые едва заметными буксирами, — все они быстро или медленно приближались к этому прожорливому чудовищу, которое порою, словно пресытясь, изрыгало в открытое море новую флотилию пакетботов, бригов, шхун, трехмачтовиков со сложным сплетением снастей. Торопливые пароходы разбегались вправо и влево по плоскому лону океана, а парусники, покинутые маленькими буксирами, стояли недвижно, облекаясь с грот-марса до брам-стеньги в паруса, то белые, то коричневые, казавшиеся алыми в лучах заката.
Госпожа Ролан, полузакрыв глаза, прошептала:
— Ах, боже мой, как море красиво!
Госпожа Роземильи ответила глубоким вздохом без всякого, впрочем, оттенка печали:
— Да, но иногда оно причиняет немало зла.
Ролан воскликнул:
— Смотрите-ка, «Нормандия» входит в порт. Ну и громадина!
Потом, указывая на противоположный берег, по ту сторону устья Сены, он пустился в объяснения; сообщил, что устье шириной в двадцать километров; показал Виллервиль, Трувиль, Ульгат, Люк, Арроманш, и реку Кан, и скалы Кальвадоса, опасные для судов вплоть до самого Шербура. Далее он рассказал о песчаных отмелях Сены, которые перемещаются при каждом приливе, чем сбивают с толку даже лоцманов из Кийбефа, если те ежедневно не проверяют фарватер в Ла-Манше. Упомянул о том, что Гавр отделяет Нижнюю Нормандию от Верхней; что в Нижней Нормандии пастбища, луга и поля отлогого берега спускаются к самому морю. Берег Верхней Нормандии, наоборот, почти отвесный: это высокий, величественный кряж, весь в зубцах и выемках; он тянется до Дюнкерка как бы огромной белой стеной, в каждой расщелине которой приютилось селение или порт — Этрета, Фекан, Сен-Валери, Ле-Трепор, Дьеп и так далее.
Женщины не слушали Ролана; они отдавались приятному оцепенению, созерцая океан, на котором, словно звери вокруг своего логовища, суетились корабли; обе они молчали, слегка подавленные беспредельной ширью неба и воды, зачарованные картиной великолепного заката. Один Ролан говорил без умолку, он был не из тех, кого легко вывести из равновесия. Но женщины наделены большей впечатлительностью, и порой ненужная болтовня оскорбляет их слух, как грубое слово.
Пьер и Жан, уже не думая о соревновании, гребли размеренно, и «Жемчужина», такая крошечная рядом с большими судами, медленно приближалась к порту.
Когда она причалила, матрос Папагри, поджидавший ее, протянул дамам руку, помог им сойти на берег, и все направились в город. Множество гуляющих, которые, как обычно в часы прилива, толпились на молу, также расходились по домам.
Госпожа Ролан и г-жа Роземильи шли впереди, трое мужчин следовали за ними. Поднимаясь по Парижской улице, дамы останавливались иногда перед модным магазином или перед витриной ювелира; полюбовавшись шляпкой или ожерельем, они обменивались замечаниями и шли дальше.
Перед площадью Биржи старик Ролан, по своему обыкновению, остановился взглянуть на торговую гавань, полную кораблей, и на примыкающие к ней другие гавани, где стояли бок о бок в четыре-пять рядов огромные суда. Пристани тянулись на несколько километров; бесчисленные мачты, реи, флагштоки, снасти придавали этому водоему, расположенному посреди города, сходство с густым сухостойным лесом. А над этим безлиственным лесом кружили морские чайки, подстерегая мгновение, чтобы камнем упасть на выкидываемые в море отбросы; юнга, прикрепляющий блок к верхушке бом-брамсели, казалось, забрался туда за птичьими гнездами.
— Может быть, вы пообедаете с нами запросто и проведете у нас вечер? — спросила г-жа Ролан г-жу Роземильи.
— С удовольствием; принимаю без церемоний. Мне было бы грустно остаться сегодня в полном одиночестве.
Пьер, который невольно злился на молодую женщину за ее равнодушие к нему, услыхав эти слова, проворчал: «Ну, теперь вдову не выживешь». Уже несколько дней, как он стал именовать ее «вдовой». В самом слове не было ничего обидного, но оно сердило Жана, — тон, которым его произносил Пьер, казался ему злобным и оскорбительным.
Мужчины остаток пути прошли молча. Роланы жили на улице Прекрасной Нормандки в небольшом трехэтажном доме. Жозефина, девушка лет девятнадцати, взятая прямо из деревни ради экономии, с характерным для крестьянки удивленным и тупым выражением лица отворила дверь, заперла ее, поднялась следом за хозяевами в гостиную, расположенную во втором этаже, и только тогда доложила:
— Какой-то господин заходил три раза.
Ролан-отец, обращавшийся к служанке не иначе, как с криком и руганью, рявкнул:
— Кто еще там приходил, чучело ты этакое!
Жозефина, которую нимало не смущали окрики хозяина, ответила:
— Господин от нотариуса.
— От какого нотариуса?
— Да от господина Каню.
— Ну и что же он сказал?
— Сказал, что господин Каню сам зайдет нынче вечером.
Господин Леканю, нотариус, вел дела старика Ролана и был с ним на короткой ноге. Если он счел нужным предупредить о своем посещении, значит, речь шла о каком-то важном деле, не терпящем отлагательств; и четверо Роланов переглянулись, взволнованные новостью, как это всегда бывает с людьми скромного достатка при появлении нотариуса, ибо оно знаменует перемену в их жизни, вступление в брак, ввод в наследство, начало тяжбы и прочие приятные или грозные события.
Ролан-отец, помолчав с минуту, проговорил:
— Что бы это могло значить?
Госпожа Роземильи рассмеялась:
— Это, наверно, наследство. Вот увидите. Я приношу счастье.
Но они не ожидали смерти никого из близких, кто мог бы им что-нибудь оставить.
Госпожа Ролан, обладавшая превосходной памятью на родню, тотчас же принялась перебирать всех родственников мужа и своих собственных по восходящей линии и припоминать все боковые ветви.
Еще не сняв шляпки, она приступила к расспросам:
— Скажи-ка, отец (дома она называла мужа «отец», а при посторонних иногда «господин Ролан»), скажи-ка, не помнишь ли ты, на ком женился вторым браком Жозеф Лебрю?
— Помню. На Дюмениль, дочери бумажного фабриканта.
— А у них были дети?
— Как же, четверо или пятеро по меньшей мере.
— Значит, с этой стороны ничего не может быть.
Она уже увлеклась этими розысками, уже начала надеяться, что им свалится с неба хотя бы небольшое состояние. Но Пьер, очень любивший мать, зная ее склонность к мечтам и боясь, что она будет разочарована, расстроена и огорчена, если новость окажется плохой, а не хорошей, удержал ее.