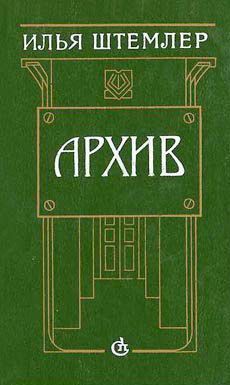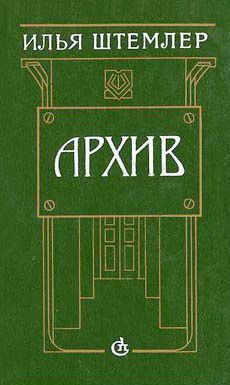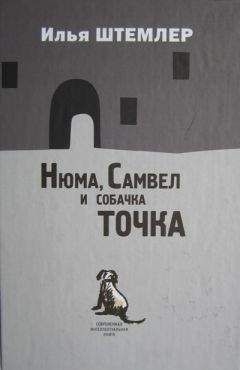— Красиво ведешь машину, Веня, — проговорил Варгасов густым голосом, в котором уже звучала привычная покровительственная нота человека, знающего себе цену.
И Веня Кузин почувствовал восторг, уверенность в себе и какую-то особую радость. Так, вероятно, ликует собака при виде долго отсутствующего хозяина.
— Да, — пискнула Ольга. — Я тоже любуюсь, молодец наш шофер.
— Должен же быть у человека знак отличия, — горделиво ответил Кузин.
— Не прибедняйся, Веня, ты хороший доктор, — милостиво произнес Варгасов. Он понял состояние Кузина и играл им, словно кошка бумажным фантиком. — Ты лучше скажи мне, Веня… Слух до меня дошел, что большая паника среди вашего брата, коллекционера. Идет облава. Верно?
«Ах вот почему он поспешил со мной повидаться, — мелькнуло в голове у Кузина. — Все ясно!» И он проговорил:
— Да, я слышал… Начали трясти букинистические магазины, антикварные. Интересно, откуда вы узнали? — спросил, намекая на специфику недавнего местопребывания Варгасова.
— Именно там все становится известным в первую очередь, Веня, — уклончиво ответил Варгасов.
Лишний раз прихвастнуть о том, что лагерное начальство делилось с ним свежими новостями, было для Варгасова мелковато. Кроме того, у Будимира Леонидовича появился еще один источник информации — осужденные за скупку и перепродажу антиквариата. Последнее время их стали «выдергивать» на допросы как свидетелей. Воротясь, они не слишком скрывали причины повышенного к себе интереса, чтобы избежать ненужных подозрений сотоварищей.
— Просьба к тебе, Веня, — проговорил Варгасов. — Повидай сегодня тех, у кого я покупал картины по твоей рекомендации. Скажи им, чтобы забыли мою фамилию. Пусть вычеркнут ее из своих записных книжек, из блокнотов, из памяти… Пользы она им не прибавит, а навредить сможет. Много у меня друзей, Веня, сам знаешь.
Кузин понимал, что это не пустое предупреждение, даже нынешний, освобожденный из колонии Варгасов весьма силен. И с каждым днем будет сильнее, он из той породы.
— Поэтому, Веня, я и просил тебя заехать за мной, — мягко закончил Варгасов. — Ты уж извини, брат. Я и сам бы мог им позвонить, да ни к чему, не так поймут.
В зеркальном отражении Кузин видел раздвинутые в улыбке губы Варгасова, короткие зубы, крепко схваченные бугристыми деснами.
— Конечно, конечно, — суетливо ответил Кузин. — Я их предупрежу. Зачем же вам это делать? Мало ли? Всех обзвоню…
— Ну и ладно! — заключил Варгасов. — А теперь сверни, пожалуйста, на улицу Достоевского. Надо мне тетку повидать.
— Да будет тебе! — одернула Ольга мужа. — Человек на работу спешит, у него прием с двух.
— А?! Извини, — ответил Варгасов. — Тогда так! Забрось нас к тетке и уезжай. Сами доберемся, на такси. Или пешочком, еще лучше. Давно я по городу не гулял.
Предложение Варгасова устраивало Кузина. Он повеселел. До улицы Достоевского езды минуты три, не больше.
— Странно мы живем, Будимир Леонидович, — благодушно проговорил Кузин. — Словно играем в какую-то игру, где все зависит от условий. Поставишь перегородку — справа будет нарушение законопорядка и криминал, слева — добропорядочная жизнь. Переставишь перегородку — наоборот: справа будет добропорядочная жизнь, слева — криминал…
— Не мы жизнь сделали такой, Веня, — ответил Варгасов. — Нам ее предложили. Мы лишь приняли условия этой игры, не более того. Откажись я от этих игр, думаю, что сел бы в тюрьму сразу же после вступления в должность — служба такая, Веня. Она неявно содержит в себе уголовное наказание — хочешь ты этого или нет. Куда ни кинь, всюду одно и то же, наслушался я в колонии всякого… Система, при которой кто-то должен сидеть, а кто-то — сажать, потом они могут поменяться ролями, но система останется — слишком могуч корень, на котором она проросла, Веня, извини за банальность. Разговор на эту тему превратился в банальность — все всё знают и водят друг друга за нос. Тоже игра, Веня. Не жизнь, а сплошная игротека… Посмотрим, как дальше дело пойдет?
— Кстати, Будимир Леонидович… как отметили в колонии смену караула? — вырвалось у Кузина.
Варгасов умолк на мгновение, соображая:
— Что тебе сказать, Веня? В колонии решили, что дадут амнистию.
— Амнистию? — вставила Ольга. — Такой был траур в стране…
— Какой там траур? — ухмыльнулся Варгасов. — Привыкли ваньку валять… Скажи честно, у тебя был траур, Оленька?
— Ну… жалко, конечно. Привыкли, — неуверенно ответила Ольга.
— Привыкли. Ничего, теперь по-новому привыкнем… Кого-кого, а министра госбезопасности в генеральных секретарях у нас пока не было. Может, заглянет в наши конюшни?
Кузин усмехнулся. Радение Варгасова о делах государства могло показаться верхом цинизма, если бы не странное ощущение — Варгасов проговорил это искренне и даже с печалью. И верно, что никто так горячо не обговаривает все промахи и беды страны, как алкаши у винного погребка.
— Кто переживал, так один осужденный артист. Сидел за мошенничество. Очень уж он лихо деда копировал — намалюет брови углем, лицо перекосит и начинает речи складывать. Так насобачился, стервец, что иной раз от работы освобождали, вызывали послушать…
— Как вызывали? Кто?! Начальство колонии? — недоверчиво произнес Кузин.
— А что? И они. Эх, Венечка, в неволе многое проявляется. Именно там для кое-кого и есть настоящая свобода. Ведь у нас, Веня, все с ног на голову поставлено. Недаром поют — кто был никем, тот станет всем. То-то… В этом и проявляется особая изощренность всевластия — мол, можем позволить себе все! Даже это. И нам ничего не будет. Тут наш закон, так-то, Венечка, — Варгасов помолчал. — Словом, тот актеришка сильно опечалился, дед его своей кончиной привилегий лишил.
Машина притормозила у дома № 5 по улице Достоевского. Высадив Варгасовых у подъезда, Кузин уехал.
Несколько минут Будимир Леонидович и Ольга топтались у щербатой фанерной двери. Дверной звонок нес свою шпанистую трель, словно не было никакой преграды. Но из квартиры никто не объявлялся, а кроме тетки там проживало две семьи.
— Тараканов морят, черти, — пошутил с досадой Варгасов, — все позапирали и разошлись.
— Наверно, — без сожаления ответила Ольга. — Знали бы, не отпустили Веню… Да и вид у тебя, Будимир — мятый плащ, чемоданчик. Чистый фармазон… Надо взять такси.
Они вышли из подъезда. Улица Достоевского походила на дачный проселок. Скудный снежок дерзко проявил все морщины и колдобины старой улицы. Давненько не появлялся тут Будимир Леонидович, а когда-то знал эти места, как свой карман.
— Ничего не изменилось, — пробормотал Варгасов. — Ничего… Слушай, Оля, я решил взять попечительство над Дарьей Никитичной. И не смотри на меня, как на психа, — так надо! Иначе все осложняется. В колонии сидел один юрист, за мошенничество, он мне и посоветовал. Надо уговорить эту старую калошу согласиться на попечительство.
— И… она переедет к нам?! — Ольга остановилась, голос ее дрожал от негодования.
— Посмотрим по обстоятельствам, — жестко ответил Варгасов.
— А если вся эта затея с архивом провалится? И мы…
— Этого не может быть. Ее родная мать была немкой, — перебил Варгасов.
Ольга вздохнула так протяжно и тяжело, словно Дарья Никитична уже въехала со своим кислым стариковским скарбом в их квартиру на четвертом этаже по Второй Пролетарской улице.
На квадратном экране новых электронных часов пульсировало двоеточие, отделяя важную часовую цифру от непоседы минутной.
— Рубль сорок, — механически отметил про себя Захар Савельевич Мирошук и встряхнул головой, словно отгоняя наваждение. — Тьфу, напасть! Без двадцати два… Это ж надо, с непривычки.
Часы по безналичному расчету купила завхоз Огурцова, смирная маленькая женщина с заметным животом, словно подошла к пятому месяцу. В архиве привыкли к ее виду и перестали обращать внимание.
Огурцову собственная внешность мало смущала, и потому она частенько пользовалась этим, особенно в транспорте.
— Завтра начну инвентаризацию, — сказала Огурцова. — А кабинет Гальперина заперт. Так тогда он и ушел с ключами. Появится он, нет? Считайте, три недели прошло. А если уедет к своим, за границу? Пусть сдаст ключи. Мне инвентарь надо проверить.
— С чего вы взяли, что Гальперин уезжает? — нахмурился Мирошук.
— Люди говорят. Что, неправда? — Огурцова смотрела на директора сонными глазами, едва приоткрыв веки.
Мирошуку даже почудилось, что завхоз его не видит, он заерзал тощим задом, выжимая скрип из рассохшегося кресла, и подал в сторону плечами. «Нет, видит», — удовлетворенно подумал Мирошук. Еще он подумал, что не в первый раз слышит о том, что Гальперин собрался уезжать из страны, что история с сыном лишь пробный камень, испытание.