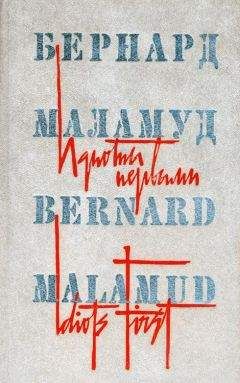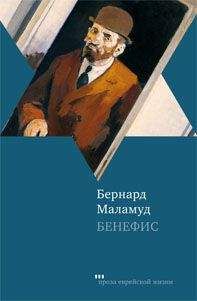Они лежали, покуривали в постели, — он отдал ей одну из купленных им шести сигарет, — и тут Эсмеральда сказала:
— Кого я там на площади искала, он мой не родственник, а сводник, во всяком случае, был моим сводником. И если он меня еще ждет на площади, чтоб там началась метель, чтоб ему замерзнуть до смерти.
Они выпили кофе. Она сказала, что ей нравится его мастерская, и предложила остаться у него.
Он было запаниковал.
— Я не хотел бы никаких помех для своей живописи. Словом, я одержимый. Да и кроме того, мастерская-то совсем крохотная.
— А я что — не крохотная? Я буду о вас заботиться, помехой вам не буду.
В конце концов он согласился.
И хотя его мучили сомнения — не больная ли она, — он разрешил ей остаться, и был, пожалуй, поелику возможно, доволен.
— Il Signor Ludovico Belvedere[63],— крикнул снизу домовладелец, — этот джентльмен поднимается к вам наверх. Если он купит картину, вам не отвертеться, придется выложить денежки за прошлый месяц, ну и за июнь-июль само собой.
— Надо еще проверить, джентльмен ли это.
Фидельман отправился мыть руки, незнакомец тем временем неторопливо, с частыми передышками карабкался по крутой лестнице. Художник поспешно снял холст с мольберта, сунул его в альков, за занавеску. Густо намылил руки, зажмурился — дым от сигареты разъедал глаза. Поспешно вытерся замызганным полотенцем. Оказалось, что никакой это не джентльмен, а Эсмеральдин жалкий cugino[64], сводник, худосочный субъект лет пятидесяти с гаком, длинный, с запухшими глазками и усишками в нитку. Руки-ноги у него были на редкость маленькие, ходил он в разношенных скрипучих туфлях и серых гетрах. Его старательно наглаженный костюм знавал лучшие времена. В руке он вертел тросточку, на голове у него красовалась жемчужно-серая шляпа. Сказать, что он видывал виды, значит, ничего еще не сказать, хоть он и старался это скрыть, и Фидельман было струхнул.
Отвесив любезный поклон, Лудовико повел разговор так, словно они с Фидельманом закадычные друзья: его, объяснил он, расположение духа оставляет желать лучшего, да и здоровье тоже — оно и понятно, он ведь целую неделю рыскал по городу в поисках Эсмеральды. Объяснил, что между ними вышло недоразумение из-за каких-то жалких лир в результате прискорбной ошибки — он не так подвел итог, поставил единицу вместо семерки.
— И с лучшими математиками такое случается, но если на человека никакие доводы не действуют, что ты с ним сделаешь? Она влепила мне оплеуху и сбежала. Я назначил ей встречу через общих знакомых — хотел объясниться, чтобы не быть голословным, представил счета, она обещала прийти и не явилась. Разве можно после этого считать ее взрослым человеком?
Позже один друг из квартала Сан-Спирито сказал ему, что Эсмеральда сейчас живет с синьором, Лудовико не хотелось бы беспокоить Фидельмана, но тот должен понять: Лудовико никогда не пришел бы к нему, если бы не настоятельная необходимость.
— Per placere, синьор[65], я прошу вашего содействия. От вас в значительной мере зависит жизнь четырех человек. Я не возражаю, пусть Эсмеральда время от времени оказывает вам услуги, если ей так хочется, но из слов вашего хозяина я сделал вывод, что вас не назовешь человеком преуспевающим, она же меж тем должна содержать себя и голодающего отца во Фьезоле. Она вам вряд ли о нем рассказала, но, не будь меня, ее отец сейчас покоился бы в братской могиле и сквозь него пророс бы лопух. Она должна вернуться и работать под моим руководством и покровительством, не только потому, что это обоюдовыгодно, но и потому, что речь идет об общей ответственности: не только ее ответственности передо мной, особенно теперь, когда я перенес тяжелейшую операцию, но также нас обоих перед ее голодающим отцом, не говоря уж об ответственности перед моей престарелой матерью — ей восемьдесят три года, и ей безотлагательно нужен квалифицированный уход. Насколько я понимаю, вы, синьор, американец. У вас все по-другому, но Италия — страна бедная. Здесь на каждом из нас лежит бремя ответственности за четырех, если не за пятерых иждивенцев, иначе нам всем несдобровать.
Он говорил спокойно, философски, порой переводя дух — похоже, недавняя операция время от времени напоминала о себе. Пока он говорил, его горящие глазки бегали по сторонам — уж не подозревал ли он, что Эсмеральда где-то прячется.
Фидельман поначалу возмутился, потом, хотя и был разочарован: он-то надеялся, что его посетитель — богатый меценат, стал слушать его не без интереса.
— С нее хватит, на панель она больше не пойдет, — сказал Фидельман.
— Синьор, — возопил Лудовико, — постарайтесь меня понять, это важно. Девочка мне многим обязана. Ей стукнуло семнадцать, когда я на нее наткнулся, кто она тогда была — деревенщина, перебивалась из кулька в рогожу. Пощажу вас, опущу подробности, не то вам дурно станет. Она выбрала это занятие, а труднее его, как нам обоим известно, нет, но устроить свою жизнь не умела. Я познакомился с ней чисто случайно, предложил ей помочь, хотя, как правило, такого рода вещами не занимаюсь. Короче говоря, я не жалел времени на ее воспитание и подыскал ей лучшую клиентуру. Приведу пример: недавно один из наших последних клиентов, богатый калека, — она ходила к нему каждую неделю, — предложил жениться на ней, но я ей отсоветовал, потому что он contadino[66]. Я заботился о ней, блюл за ее здоровьем и благополучием. Настоял, чтобы она регулярно проверялась у врача, умел припугнуть скандальных клиентов игрушечным пистолетом, всячески оберегал ее от обид и опасностей. Поверьте, покровительство у меня в крови, а к ней я искренне привязался. Люблю ее как родную дочь. Она, случаем, не в соседней комнате? Почему бы ей не выйти и не поговорить по душам?
Он ткнул тросточкой в сторону задернутого занавеской алькова.
— Там кухня, — сказал Фидельман. — Она на рынке.
Лудовико погрустнел, подул на пальцы, его глазки, машинально обегавшие комнату, было погасли.
Но он мигом оправился, стал с интересом рассматривать фидельмановские картины. Лицо его сразу оживилось.
— Ну конечно же, вы художник! Как это я не заметил, извините, но когда снедает тревога, ты наполовину слеп. К тому же мне сказали, что вы торгуете недвижимостью.
— Нет, я художник.
Сводник стрельнул у Фидельмана последнюю сигарету, несколько раз затянулся и, прищурясь, стал разглядывать картины на стене, а не докуренную до половины сигарету тем временем спрятал в карман.
— Просто удивительное совпадение!
В свое время он, как оказалось, был рамочником, позже совладельцем небольшой галереи на виа Строцци и, естественно, знал толк в живописи и в сбыте картин. Однако из-за махинаций его жуликоватого партнера галерея разорилась. А открыть ее снова у него недостало средств. К тому же ему вскоре удалили легкое.
— Вот почему я не докурил сигарету.
Лудовико раскашлялся, и Фидельман поверил ему.
— С таким здоровьем, естественно, трудно заработать на жизнь. Даже рамы вязать мне и то не по силам. Вот почему работа с Эсмеральдой обладает для меня рядом преимуществ.
— Так ли, сяк ли, а наглости у вас не отнимешь, — ответил художник. — Не говоря уж о том, что вы заявились сюда и учите, как мне следует вести себя vis-à-vis[67] к особе, которую я приютил по ее собственной просьбе, и, главное, живете на доходы от торговли ее телом. При всем при том это довольно-таки безнравственно. Эсмеральда, вероятно, чем-то и обязана вам, но души своей она вам не запродала.
Сводник осанисто оперся о трость.
— Раз уж вы, синьор, употребили это слово, сами-то вы разве можете считаться нравственным человеком?
— Что касается искусства, да.
Лудовико вздохнул.
— Ах, маэстро, кто нам дал право разговаривать о предмете, в котором мы так мало понимаем? Нравственность питают тысячи источников, способам ее проявления несть числа. Касательно же души, кто способен понять ее устройство? Вспомните распятого разбойника, лишь он вознесся на небеса вместе с Господом. — Лудовико раскашлялся. — Не упустите из виду, девочка по собственной воле выбрала себе такое призвание; я тут ни при чем. Но ни умелостью, ни лоском не обладала, хотя нельзя отрицать, что она достаточно сведуща. У нее есть и преимущества: юность, известная непосредственность, но ей необходим советчик и руководитель. Видели, в какой шляпке она ходит? Я дважды пытался сжечь эту шляпку. Эсмеральде явно недостает вкуса. И в одежде ее также сказывается отсутствие вкуса, но она ужасно упрямая — с ней не сладить. И все равно, я посвятил себя Эсмеральде, и мне удается улучшить ее положение, за что я и получал скромные, но обязательные комиссионные. Учитывая все обстоятельства, что в том плохого? Нравственность основывается на признании взаимных нужд и взаимопомощи. Взаимное великодушие осуждать нельзя. В конце концов, чему учил нас Иисус?