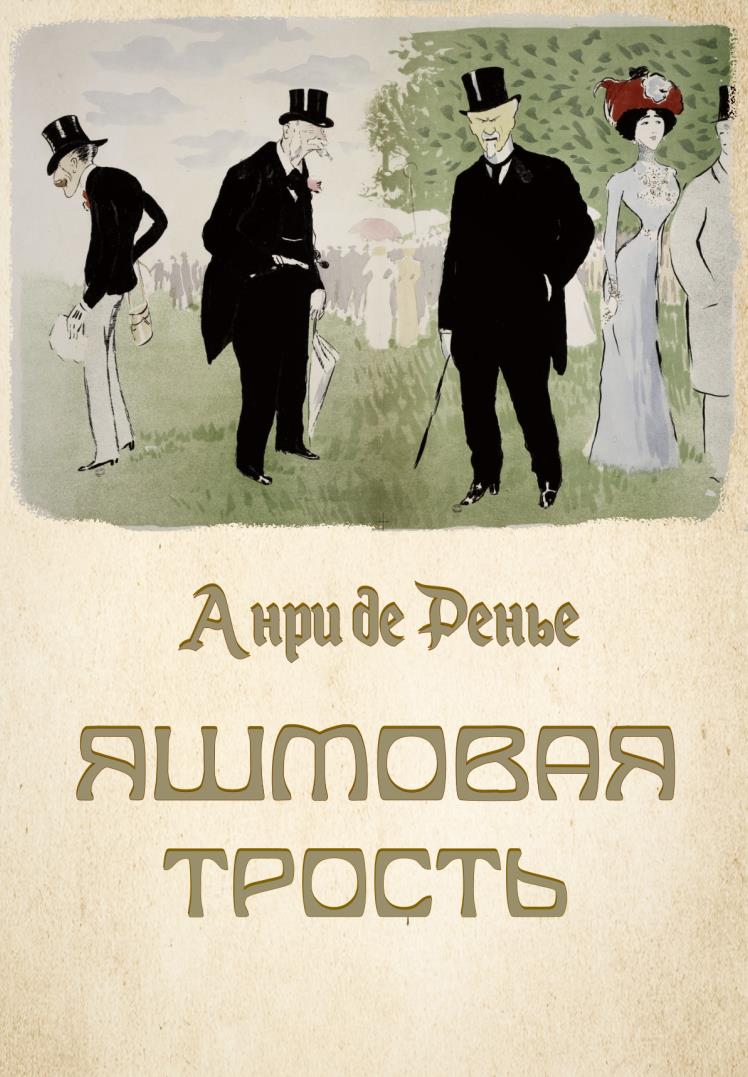произойдут. В самом деле, открытки и письма, которые я получал от нее с дороги, не заключали в себе ничего тревожного. Каково же было мое удивление, когда, по возвращении Луизы д'Овинье, я увидел перед собой совсем другого человека! Она, которая выказывала мне всегда столько доверчивости и дружбы, теперь была со мной натянутой и принужденной. Она говорила со мной о своем путешествии, рассказывая самые незначительные мелочи. Я тоже чувствовал себя стесненным. Так продолжалось, пока не доложили о приходе г-на де Руассена. При виде его у меня исчезло всякое сомнение. Он тоже стал другим. Счастье, самое очевидное, проступало наружу во всех его движениях, во всех его словах. Это уже не был внимательный и скромный де Руассен, какого я знал два месяца тому назад. Это был де Руассен торжествующий, счастливый, любимый!* * *
Каким путем достиг он своей цели? Каким образом Луиза д'Овинье так изменила себе? В моих ушах еще звучала фраза из разговора, имевшего место накануне этой любовной поездки в Италию: «Для того чтобы я полюбила господина де Руассена, — сказала мне со смехом г-жа д'Овинье, — нужно, чтобы случилось чудо». Итак, это чудо совершилось? Что же произошло между ними?
Я получил объяснение на следующий день, в письме Луизы д'Овинье. Она писала мне:
«Да, мой дорогой, мой старый друг, я люблю Жака де Руассена, и он любит меня. Вы были правы, предостерегая меня от опасности, которой я подвергла себя, ибо любовь, я теперь это знаю, грозная сила. Она такая оттого, что никогда не знаешь, что можешь ожидать от нее. Это — бог могущественный и тайный. Он — великий трансформатор, великий волшебник. Я в этом быстро убедилась. Когда я отправлялась в Италию с Жаком, то думала, что везу с собой лишь милого и веселого спутника, одного из тех людей, которые нравятся нам и развлекают нас, потому что они охотно говорят нам о нас самих, и которые занимают в нашей жизни не большее место, чем то, которое дозволяют им наше тщеславие и незанятость. Ах, как я ошиблась, мой друг, и насколько иным вскоре предстал мне Жак по сравнению с тем, чем он мне раньше казался! Это оттого, что, неведомо для меня, любовь вселилась в него.
Я это поняла, когда в часы, которые мы проводили вместе перед прекраснейшими пейзажами и высшими в мире созданиями красоты, я увидела, как исчезала его притворная веселость, увидела глаза его, полные слез и пламени, увидела лицо его, оживленное страстью, где свет надежды сменялся сумраком печали, услышала голос его, дрожащий от тревожного волнения и говорящий те пламенные и проникающие в нас слова, которые звучат потом долгим эхом в сердце, растворяя волю. Ах, что общего было между этим Жаком де Руассеном и тем остроумным светским льстецом, который умел так вовремя шепнуть вам на ухо нежное или лукавое словечко!..
Этому новому де Руассену внимала я, и этот новый де Руассен очаровал меня; он сумел меня убедить. Лишь его глазам и его рукам я уступила. Так как любовь говорила его устами, я ей ответила.
Я не сразу, однако, повиновалась ее голосу. Да, ибо мне известно и то, что этот голос, такой мелодичный, звучит порою иначе. Я знаю, что если страсть полна очарования, то она таит в себе и разрушение; что ее розы иногда превращаются в терновник; что ее яркое пламя иногда оставляет после себя лишь отравленный пепел. Да, я не сразу повиновалась ее чудесному голосу. Я ждала знака, который помог бы мне решиться, я ждала указания судьбы. И оно не замедлило явиться.
Во Флоренции, в дальней комнате одного старого дворца, мне показали портрет. Он изображает молодую женщину, которая немного похожа на меня. У нее печальное и очень кроткое лицо. Она гораздо красивее меня, но мертвые всегда красивее живых потому что прошлое всегда сообщает им бессмертную прелесть. Ее звали, кажется, Ниной Адаланти, и она умерла от печали и сожаления, после того как отвергла человека, ее любившего. Я долго смотрела на нее, и мне показалось, что ее прекрасные глаза взирали на меня с завистью и знаком приглашали меня к тому, чтобы я не повторила ее скорбной и непоправимой ошибки. Жак был рядом со мной и держал мою руку в своей. Я не отняла моей руки.
Дайте же и вы мне свою руку, мой дорогой, мой старый друг, и не сердитесь на любовь.
Луиза».
Я медленно сложил письмо Луизы д'Овинье. Не говорите мне больше о поездках в Италию...
ЗАПЕРТАЯ ДВЕРЬ
С самого моего приезда они привлекли мое внимание: он — своей еще крепкой осанкой человека на пороге старости, она — нежной грацией, томной и блеклой. Они были «интересной парой» в гостинице, где приезжие редки осенью, в маленьком местечке по имени Рива, расположенном в австрийском конце озера Гарды и внушившем мне именно своим безлюдием желание пробыть там некоторое время.
В этот период моей жизни я был настроен весьма меланхолично, вследствие несчастной любви, встретившей препятствия. По причинам, о которых я умолчу, я должен был отказаться от любимой женщины. Эта жертва, вынужденная серьезными нравственными обязанностями, оказалась для меня крайне тяжелой, и я искал в путешествии по Италии облегчения моей скорби. В таком душевном состоянии я совершил экскурсию по озеру Гарде. Величественная красота мест несколько отвлекла меня от самого себя, а положение Ривы в самом узком конце озера, у подножия высокой и суровой скалистой ограды, ее обширная и почти пустая гостиница с садом, расположенным террасой над водой, побудили меня поселиться там на несколько недель.
Несмотря на поглощавшую меня печаль, я все же, как сказал, сразу по приезде отметил упомянутую чету. Она даже настолько затронула мое любопытство, что я справился в бюро отеля об имени обоих путешественников. Все, что я узнал, было то, что они французы и что их зовут г-н и г-жа Дорланж. Г-н Дорланж был человеком лет пятидесяти, крепко сложенным, широкоплечим. У него была массивная голова, энергичное лицо, седеющая бородка. Его жена,