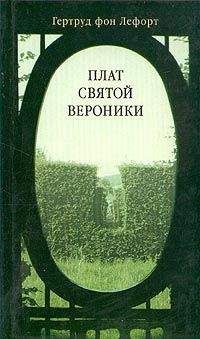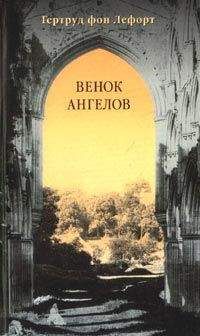А бабушка воскликнула полураздраженно-полуодобрительно:
– Да уж знаю, Жаннет, что все ваши добрые дела совершил кто угодно, только не вы! Однако я тоже читала ваших теологов; Тридентский собор [15] сделал, на мой взгляд, прекрасный вывод: милость Божья требует деятельного участия человеческой воли. Стало быть, не обошлось где-нибудь и без вас.
Жаннет рассмеялась: она знала, что бабушка любит иногда блеснуть своими богатыми познаниями, которыми обладала даже в области теологии. Я не помню продолжения разговора, но то, что было сказано до этого, навсегда осталось в памяти, ибо в этих словах я нашла подтверждение тому, что и сама всегда смутно чувствовала – что с верой тетушки Эдельгарт что-то не так. И потому я ничуть не удивилась, услышав, что она не настоящая католичка, то есть мне вдруг показалось это столь похожим на правду, ибо я не смогла бы припомнить случая, чтобы она когда-либо выразила свое мнение с беспощадной прямотой; слова, произнесенные решительным тоном, срывались с ее губ лишь в те редкие минуты, когда она бывала очень взволнована или испугана. Все остальное время она словно что-то скрывала от окружающих, как будто ей было бы неприятно, если бы они узнали, о чем она думает, и тем самым завладели бы частью ее души.
Однако этот разговор открыл мне еще кое-что важное, связанное с бабушкой: моей бабушке была чужда тоска! Это стало для меня удивительным открытием, это была разгадка того, почему она никогда не бывала грустной и почему я рядом с ней всегда чувствовала себя такой счастливой. Ведь тоска – это желание, тревога, страх. Я и сама прекрасно знала, что такое тоска, – это тот несмолкающий зов, который я слышала в себе самой, пока бабушка не приблизила меня к себе, зов, так похожий на голос маленького фонтана в нашем дворике, – то тихое, туманно-призрачное и в то же время мощное Нечто, не желающее открыть свое имя и неизменно отвергающее все предлагаемые мною имена. И я приняла твердое решение никогда больше не поддаваться своей прежней тоске, и причиной тому было не только стремление подражать бабушке и, может, даже быть похожей на нее, но также неопределенный страх стать такой, как тетушка Эдельгарт. С тех пор мне все больше казались странными многие ее черты, на которые я прежде почти не обращала внимания. Постепенно мне стала ясна тесная связь между прекрасной песнью «Pange lingua», всегда производившей на меня такое сильное впечатление, и маленькой белой облаткой, заключенной в золотую дароносицу. Я видела ее нежное мерцание над склоненными головами молящихся, когда дароносицу поднимали для благословения; каждый раз это было дивное мгновение. И хотя, в сущности, ничего особенного при этом не происходило и прекрасная песнь в конце концов тоже смолкала, у меня всегда оставалось это странное чувство – желание поспешить навстречу некой невыразимой тайне. И вот однажды в приемном покое монастыря одна из монашек подарила мне картинку с изображением дароносицы и спросила, знаю ли я, как в освященной облатке пребывает Спаситель. Мне это вовсе не казалось таким уж непонятным, как она, вероятно, ожидала, ибо к тому времени я уже видела в дароносице нечто загадочно-удивительное, пожалуй, даже самое удивительное во всей евхаристии. Монашки же, по-видимому, обрадовались моему ответу. Та из них, что подарила мне картинку, поцеловала меня и сказала:
– Дитя мое, наш Спаситель, должно быть, очень любит вас, если Он открыл вам это.
А тетушка Эдельгарт вдруг так испуганно посмотрела на меня, словно перед ней явилась ее собственная тень. Я тогда не знала, что так оно на самом деле и было, и решила, что она просто вспомнила про моего отца и спросила себя, не нарушила ли она как-нибудь его запрет. И мне стало жаль ее: я подумала, как ей, должно быть, тяжело постоянно скрывать от других то, что, без сомнения, ей очень дорого. Это было еще до того разговора, из которого я узнала, что она не до конца принадлежит Церкви. Позже, когда я уже знала это, она больше не внушала мне такой жалости; я думала: может, она была бы даже рада не учить меня вере, которой сама предана лишь наполовину. Это, конечно же, была отвратительная и, как потом выяснилось, – ошибочная мысль, но она, казалось, сама проросла в мое сознание, порожденная и внешним и внутренним обликом тетушки Эдельгарт. Не видя в этой мысли ничего отвратительного, я всего лишь полагала, что сумела распознать странную неуверенность ее души, подобно тому как мы порой в сумерках вдруг узнаем фигуру знакомого человека, прежде чем он отпрянет назад, не желая быть узнанным.
В своем предположении, что тетушка ни при каких условиях не желает быть «узнанной» кем бы то ни было, я еще больше утвердилась, когда бабушка постепенно ввела меня в круг своих друзей, собиравшихся у нее каждую неделю в определенный день на чай. Ее и без того красивая комната тогда приобретала очень праздничный вид: горела люстра, все вазы были полны цветов, среди которых мне больше всего нравились нежные, прелестные фреезии. Я находила в их длинных бутонах цвета слоновой кости некое сходство с руками тетушки Эдельгарт, и мне всегда казалось, будто эти руки радуются, расставляя цветы по вазам, в то время как на лице тетушки уже лежала тень одиночества, все отчетливее выражавшегося на нем с появлением бабушкиных гостей. Я не раз с удивлением обращала на это внимание, – по правде сказать, это одиночество едва ли приличествовало ей как дочери хозяйки дома. К тому же она вполне успешно могла бы участвовать в обсуждении тонких и остроумных вопросов, которые так любили в этом кругу. Правда, она не обладала ни богатыми знаниями, ни высокой культурой бабушки – более того, она решительно отвергала и то и другое, и с этим связано было немало драматических сцен и разногласий между ней и бабушкой сначала по поводу ее собственного, а затем и моего воспитания. Бабушка с грубоватой прямолинейностью заявляла, что, по мнению ее дочери, лучше остаться невеждой, нежели усвоить хотя бы одну-единственную чужую мысль, потому что мыслей она боится так же, как и людей. Тетушка говорила, что она потому лишь защищается от так называемой духовной культуры, что это, в сущности, – материалистическая культура, а бабушка просто не замечает этого, так как влюблена в свою науку и в красоту. Бабушка, разумеется, и в самом деле была влюблена в науку и в красоту, однако, без всякого сомнения, некоторая доля истины заключалась и в том, что тетушка даже в мире мыслей и художеств, независимо от их характера, странным образом видела какую-то опасность для своей нежной, пугливой единоличности. Она и вправду не очень утруждала себя учением, но так как обладала природным умом и была человеком очень тонким, то недостатки образования вовсе не мешали ей, а иные замечания ее отличались некоей совершенно особой прелестью странной новизны, всегда импонировавшей нашим гостям. Но тетушка никогда не пыталась обратить это в свою пользу – ее одиночество коренилось в сознательной закрытости, однако она не могла предотвратить того, что все вновь появляющиеся в нашем доме гости неизменно выказывали ей искреннюю симпатию, и этому легко было найти объяснение: она со всеми была чрезвычайно внимательна и предупредительна. Каждый, кто хоть однажды побывал у нас в доме, мог быть уверен в том, что она точно знает, какой чай он любит – крепкий или слабый, с лимоном или со сливками и тому подобное. Но главное – тетушка Эдель все еще была очень хороша собой, особенно при вечернем освещении. Она порой вдруг словно озарялась изнутри каким-то непостижимым очарованием, и тогда весь ее облик дышал юностью и целомудрием, ярко выделяясь среди присутствующих. На самом же деле эта поздняя молодость, конечно, была всего лишь печально-тревожным опознавательным знаком души, всегда неизменно противившейся великим, роковым решениям. Впрочем, ее, кажется, меньше всего заботило впечатление, которое она производила на окружающих; это проявлялось уже хотя бы в том, что она, отнюдь не пренебрегая своей внешностью, все же упрямо отказывалась от каких бы то ни было украшений. На этих званых вечерах она по обыкновению донашивала свои старые, очень простые светлые девичьи платья, о которых бабушка говорила, что они, еще будучи новыми, плелись в хвосте у тогдашней моды, а теперь и вовсе выглядят как исторические костюмы. Я понимала, что бабушка стыдится убогих нарядов своей дочери, потому что сама она всегда являлась перед гостями в праздничном великолепии черного тяжелого шелка, драгоценных кружев и жемчуга. Вместе с тем я не могла не видеть, что старомодные белые платья все же обладают своеобразной прелестью и сообщают тетушке какое-то трогательное, немного печальное, – а сегодня я, пожалуй, прибавила бы еще «вневременное», – обаяние. Я даже любила смотреть на нее, когда на ней было одно из этих платьев, и однажды сказала об этом Жаннет. Поводом послужило то, что Жаннет, желая покончить с бесконечными досадными размолвками из-за «старомодных» нарядов, в один прекрасный день подарила своей наперснице чудную ткань для платья, на которую ей, вероятно, долго пришлось копить втайне от всех.