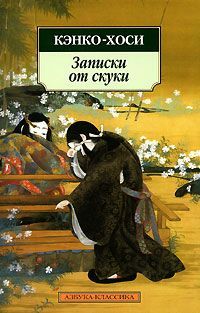Раз уж ты родился человеком, стремись любыми способами уйти от мира. Разве не возродятся всякого рода животными те, кто всеми помыслами стремится лишь удовлетворить свою жадность и не стремится к спасению?
Человеку, замыслившему осуществить великое дело просветления, надлежит отказаться совершенно от самых необходимых и близких сердцу дел, коль скоро они мешают осуществлению истинного стремления.
Когда вы станете рассуждать таким образом: немного погодя я покончу с этим, потом примусь за то — оно ведь в том же духе! — а вот такие-то и такие-то дела могут вызвать людские насмешки, — времени у меня еще много — подожду вот этого, а потом не спеша, без суеты совершу положенное, — у вас станет копиться все больше неотложных дел и не будет конца-краю этим делам, так что никогда и не наступит заветный день.
В общем-то люди, если они мало разбираются в истине, проводят в подобных упованиях всю свою жизнь.
Разве тот, кто бежит от пожара, кричит: «Минутку погодите!»? Когда хотят спасти свою жизнь, забывают про все и бросают даже имущество. А разве жизнь ждет человека? Смерть приходит быстрее, чем бьет струя воды или столб пламени. Как же трудно он нее скрыться!
Тогда нам тяжело будет оставить своих престарелых родителей, малых детей, милость господина и сострадание ближних, но не оставить их мы не в силах.
В павильоне Истинной Колесницы[105] был редкой мудрости служитель по имени Дзёсин-содзу. Он очень любил сладкий картофель имогасира и помногу ел его. Даже во время проповеди сидит, бывало, на своем месте, читает святые книги, а сам уплетает из пристроенного на коленях большущего горшка, который доверху засыпан картофелем. Когда этот служитель заболел, то неделю или две пролежал у себя в постели — якобы лечился; и тогда он ел особенно много отличного картофеля, который отбирал по своему вкусу, и таким способом излечился от всех болезней.
Других он никогда не угощал — ел всегда один. Служитель был очень беден, однако его наставник по своей смерти завещал ему двести связок монет[106] и хижину. Хижину служитель продал за сто связок и, предназначив все свои деньги для покупки имогасира, поместил их на хранение к одному столичному жителю. Затем Дзёсин стал брать у него по десять связок монет, так, чтобы можно было есть картофеля вдоволь. И хотя ни на что другое денег он не тратил, монеты эти скоро все вышли.
Говорят, что он был поистине удивительным подвижником, если, живя в бедности, получил триста связок монет и распорядился ими таким вот образом.
Увидал как-то этот служитель одного монаха и прозвал его Сироурури.
— Да что это такое? — спросили его, и он ответил:
— А я и сам не знаю, что это такое, но только если бы оно существовало, то, наверное, смахивало бы на физиономию этого бонзы.
Дзёсин во всем превосходил других — в красоте, в силе, в аппетите, в искусстве письма, в учености, в красноречии; но хотя он и был Светильником Закона[107] в секте, а посему почитался во всем храме, в то же время он был человеком странным, не считавшим мирское суетным, все делал как ему заблагорассудится и никогда не поступал так, как того желало большинство.
Однажды, когда Дзёсин, будучи по делам службы вне храма, был приглашен к обеду, он не стал дожидаться, пока угощения расставят перед всеми присутствующими, — как только перед ним поставили прибор, он тут же все съел, а едва лишь ему вздумалось вернуться домой, он тотчас поднялся и ушел один.
Ни обед, ни ужин он не принимал в положенное для всех время, а ел тогда, когда захочет, неважно, было ли то среди ночи или на рассвете; если же он хотел спать, будь то хоть в полдень, он закрывался у себя и, с каким бы важным делом к нему ни пришли, ничего не хотел слушать. А когда ему не спалось, он не спал и в самый поздний час, невозмутимый, бродил он кругом как ни в чем не бывало. Словом, вел себя Дзёсин не так, как это принято обычно, однако никто не относился к нему неприязненно и все ему позволялось.
Может быть, оттого, что добродетели его достигли совершенства?
При высочайших родах сбрасывать бочонок не обязательно. Этот обряд совершают лишь тогда, когда высочайший послед задерживается. Если послед выходит, делать ничего не нужно. Обычай этот пришел от черни, и большого значения ему не придают. Наибольшим спросом пользуются бочонки из деревни Охара.[108] На картине в старой сокровищнице изображено, как бросают бочонок в доме простолюдина, у которого рождается ребенок.
Когда Энсэй-монъин[109] была еще юной, она послала человека к монарху-государю, повелев передать на словах песню:
Двойной знак,
Знак, как рога у быка;
Знак прямой,
Изогнутый знак —
Так думаю я о вас.
Это означает: «Думаю о вас с любовью».[110]
Адзяри, устраивающий церемонию Последующих семи дней,[111] созывает во дворец воинов, называемых ночной стражей. Это вошло в обычай после того, как когда-то во дворец прокрался вор.
Но поскольку в том, как проходит эта церемония, усматривают признаки судьбы на весь год, присутствие солдат спокойствия в души не вносит.
«Кому именно ездить в повозке о пяти шнурах, в точности не определено. В соответствии со своим положением в нее может сесть лишь тот, кто достиг самых высоких чинов». Так мне объяснил один человек.
Один человек говорил: «Современные шляпы намного выше старинных». Люди, имеющие старомодные шляпные коробки, используют их и теперь, нарастив им, однако, края.
Когда господин верховный канцлер Окамото,[112] приложив к усыпанной цветами ветке алой сливы пару фазанов, сказал придворному сокольничему Симоцукэ-но Такэкацу: «Птиц следует укрепить на этой ветке и послать в дар», тот почтительно молвил: «Мне неизвестен способ привязывать птицу к цветам; я тем паче несведущ в том, как укрепляют двух птиц на одной ветке».
Верховный канцлер спросил у повара, у других людей, а потом снова обратился к Такэкацу:
— В таком случае посылай их, связав, как тебе вздумается, — после чего тот отправил только одну птицу, привязав ее к сливовой ветке, на которой не было ни цветочка.
Такэкацу говорил так: «Лучше всего их привязывать к сливовой или какой-нибудь другой ветке, когда цветы на ней или еще не распустились, или уже осыпались. Привязывают и к сосне-пятилистнику. Первоначально длина ветки должна равняться шести-семи сяку, потом делают ножом косой срез на пять бу.[113] К середине ветки привязывают птицу. Ветки бывают разные: к одним фазанов привязывают за шею, к другим — за ноги. С двух сторон к веткам принято прикреплять нераспутанные побеги вистарии. Усики ее следует обрезать по длине маховых перьев птицы и загнуть наподобие бычьих рогов.
По первому снегу утром с достоинством входишь в центральные ворота, держа дарственную ветвь на плече. Следуя по каменному настилу под стрехами карниза, ступаешь так, чтобы не оставить следов на снегу, потом выдергиваешь из фазаньего хвоста несколько перьев, разбрасываешь их вокруг и вешаешь птицу на перила дома.
В вознаграждение тебе выдают платье, и ты, набросив его на плечи, с поклоном удаляешься.
Хотя мы и говорим о первом снеге, но если снегу выпало так мало, что он не скрывает носы башмаков, с дарами не ходят. Разбрасывание влажных перьев должно означать, что хвост у фазана вырвал сокол, — значит, фазан добыт на соколиной охоте».
Чем же объясняется то, что сокольничий не стал привязывать птицу к цветущей ветке? В «Повести из Исэ» встречаются слова о том, как в Долгую луну[114] привязывают фазана к самодельной ветке сливы: «Цветы, что сорвал для тебя, никогда не изменятся…» Очевидно, нет большой беды и в искусственных цветах.
Святилища Ивамото и Хасимото в Камо посвящены Нарихира и Санэката.[115] Люди обычно путают эти святилища, поэтому, когда мне однажды случилось побывать там, я окликнул проходившего мимо престарелого служителя и осведомился обо всем у него. Он чрезвычайно учтиво отвечал мне:
— Осмелюсь полагать, что, поскольку о Санэката передают, будто его святилище отражается в ручье Омовения рук, а святилище Хасимото расположено тоже вблизи воды, — оно посвящено Санэката. Мне говорили, что сложенные Есимидзу-но-касё[116] стихи:
Луну воспевавший,
Взора с цветов не сводивший,
Изящества полный,
Он здесь —
Древний певец Аривара! —
воспевают святилище Ивамото, однако, смею заметить, вы осведомлены об этом несравненно более нашего.