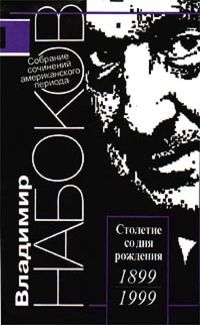Как Вы знаете, одно время я собирался последовать примеру Вашего удачного бегства. Она рассказала мне про своего дядюшку, жившего теперь, по ее словам, в Нью-Йорке: до этого он преподавал верховую езду в колледже на юге и женился там на богатой американке; у них родилась глухонемая дочь. Жалела, что потеряла их адрес, но через несколько дней он чудесным образом нашелся — и мы написали драматическое письмо, на которое так и не получили ответа. Впрочем, это не имело значения, поскольку к тому времени я уже обзавелся солидным поручительством от профессора Ломченко из Чикаго; увы, кроме этого, ничего не было сделано для получения необходимых бумаг, вплоть до самой оккупации, хотя я и предвидел, что, останься мы в Париже, кто-нибудь из моих доброхотов-соотечественников рано или поздно предъявит кому следует опасные строки в одном из моих сборников, где я заявлял, что, несмотря на все ее мрачные грехи, Германия обречена во веки веков оставаться мировым посмешищем.
Такова причина, побудившая нас отправиться в кошмарное свадебное путешествие. Сдавленные и дрожащие в тисках апокалиптического исхода, поджидающие поездов вне расписания, отправлявшихся в неизвестном направлении, бредущие сквозь жалкие декорации равнодушных городков, погруженные в беспросветные сумерки физического изнурения, мы бежали; и по мере нашего бегства становилось все ясней, что сила, распоряжающаяся нами, — нечто большее, чем дылда в сапогах и каске с его громыхающим зверинцем по-разному передвигающегося механического хлама, — нечто такое, символом чего он был лишь номинально, нечто чудовищное и непостижимое, вневременная и безликая громада изначального ужаса, которая наваливается на меня сзади даже здесь, в зеленом безлюдье Центрального парка.
Ах, она выносила все это отважно, с какой-то бесшабашной бодростью. Но как-то раз вдруг разрыдалась, вызвав сочувствие соседей по вагону. «Собачка, — всхлипнула она, — оставили собачку. Бедная наша собачка!» Правдоподобие ее горя ошеломило меня, ведь у нас не было собаки. «Знаю, — объяснила она, — но я представила себе, что мы и в самом деле купили того сеттера. Только подумай, как он бы сейчас выл за запертой дверью». О покупке сеттера никогда не было и речи.
И вот чего не забыть: большая дорога и семейство беженцев (две женщины с ребенком, их старый отец или дедушка, умерший в пути). Небо представляло собой хаос черных и охряно-желтых облаков с безобразным просветом солнца над укутанным в сырую вату холмом, — и покойник на спине, под пыльным платаном. Палкой и руками женщины пытались вырыть придорожную могилу, но почва оказалась слишком твердой; пришлось отказаться от затеи и усесться бок о бок среди отцветших маков, несколько поодаль от трупа с его запрокинутой кверху бородкой. Но мальчик все еще рыл, царапал и скреб землю, пока не выкорчевал плоский камень, забыв о предмете своих торжественных усилий: стоя на четвереньках, демонстрируя палачу все позвонки на тонкой детской шее, он с изумлением и восторгом смотрел, как тысячи крохотных коричневых муравьев мечутся, собираются и разбегаются в поисках убежища… в Гар, и в Од, и в Дром, и в Вар, и в Восточные Пиренеи, — мы же вдвоем остановились только в По.
Испания оказалась труднодостижимой, и нам пришлось направиться в Ниццу. В местечке, называвшемся Фошер (десятиминутная остановка), я выбрался из вагона, чтобы купить еды. Когда спустя несколько минут я вернулся, поезд уже ушел — и бестолковый старик, ответственный за чудовищную пропасть, разверзшуюся передо мной (угольная пыль, поблескивающая на жаре между голыми равнодушными рельсами, одинокий клочок апельсиновой кожуры), грубо сказал мне, что, как бы то ни было, я не имел права выходить.
В лучшем мире я мог бы обнаружить местонахождение своей жены и подсказать ей, что делать (со мной были оба билета и бо́льшая часть денег), в нашем же случае моя кошмарная борьба с телефоном оказалась бесполезной, — пришлось отмахнуться от нескольких сдавленных голосов, лающих на меня издалека, я отправил две или три телеграммы, которые, наверное, до сих пор в пути, и поздно вечером сел в местный поезд до Монпелье, дальше которого ее поезд не должен был уйти. Не найдя ее там, я оказался перед выбором: продолжать путь, поскольку она могла сесть на марсельский поезд, только что мной пропущенный, или ехать назад, потому что она могла вернуться в Фошер. Сейчас не помню, какая путаница умозаключений привела меня в Марсель и Ниццу.
Помимо обычной рутины, вроде отправления неверных сведений во множество невероятных мест, от полиции не было никакого прока: один жандарм наорал на меня за то, что я доставляю лишние хлопоты, другой запутал дело тем, что поставил под сомнение подлинность моего свидетельства о браке, так как оно было проштамповано, как он утверждал, не с той стороны, третий — жирный комиссар с водянистыми желтыми глазами — признался, что тоже пишет стихи в свободное время. Я искал новые знакомства среди бесчисленных русских, живших или застрявших в Ницце. Слушал рассказы тех, в ком текла еврейская кровь, об обреченных соплеменниках, загнанных в поезда, направлявшиеся в ад, и собственная моя участь приобретала банальный оттенок заурядности, пока я сидел в каком-нибудь переполненном кафе с млечно-голубым морем, вздымавшимся передо мной, и ракушечным шепотом за спиной, рассказывающим и пересказывающим историю избиений и катастроф, а также про серый рай за океаном, привычки строгих консулов, их причуды.
Через неделю после моего приезда ленивый чин в штатском навестил меня и повел по кривой, вонючей улочке в покрытый копотью дом с вывеской hôtel, полустертой от грязи и времени; там, как он сказал, нашли мою жену. Предъявленная им девушка оказалась, конечно же, абсолютной незнакомкой, но мой Шерлок Холмс некоторое время надеялся выбить из нас признание, что мы женаты, пока ее немногословный и мускулистый любовник стоял у кровати и слушал, скрестив руки на груди в полосатой майке.
Отделавшись, наконец, от этих людей, направляясь домой, я наткнулся на небольшую очередь у входа в продуктовый магазин, и там, в самом ее конце, стояла моя жена, приподнявшись на цыпочки, чтобы разглядеть, что же именно продают. И первое, что она мне сказала, относилось к апельсинам, которые там продавали.
Ее рассказ был весьма путаным, но совершенно банальным. Она вернулась в Фошер и сразу отправилась в комиссариат, вместо того чтобы справиться на станции, где я оставил для нее записку. Какие-то беженцы предложили ей присоединиться к ним; она провела ночь в велосипедном магазине, где не было ни одного велосипеда, на полу, вместе с тремя пожилыми дамами, лежавшими, по ее выражению, в ряд, как бревна. На следующий день она увидела, что у нее не хватает денег, чтобы добраться до Ниццы. Одна из бревноподобных попутчиц одолжила ей немного денег. Она села не в тот поезд и все-таки доехала до города, название которого не могла сейчас припомнить. Попала в Ниццу два дня назад и встретила знакомых в русской церкви. Они сказали ей, что я где-то здесь, разыскиваю ее и, несомненно, вскоре появлюсь.
Несколько позже, когда я сидел в своей мансарде на краешке единственного стула и обнимал ее стройные молодые бедра (она расчесывала мягкие волосы, запрокидывая голову при каждом взмахе гребешка, и чему-то мечтательно улыбалась), губы ее вдруг задрожали и она положила руку мне на плечо, взглянув на меня так, как если бы я был отражением в воде, замеченным ею впервые.
«Я соврала тебе, милый, — сказала она. — Я лгунья. Я провела несколько ночей в Монпелье с хамом, которого встретила в поезде. Я совсем этого не хотела. Он продавал лосьоны для волос».
Время, место, пытка. (Ну Вы же помните «Отелло»!) Ее перчатки, веер, маска. Я провел эту и много других ночей, выпытывая у нее подробности, но так и не узнав их все. Я пребывал в странном заблуждении, что сначала должен узнать все детали, воссоздать каждую минуту и только затем решить, смогу ли я это вынести. Но предел неутоляемого знания был недостижим, и мне было трудно представить ту приблизительную черту, за которой я почувствую себя удовлетворенным, так как, наверное, знаменатель каждой дроби знания возрастает в прогрессии, обратной передышкам между поступлением информации.
При первом объяснении она была слишком утомлена, чтобы испугаться, а затем решила, что я ее оставлю; вообще она, по-видимому, считала, что такое признание должно стать чем-то вроде утешительного приза для меня, а не горячкой и агонией, какими оно было в действительности. Так продолжалось целую вечность, она то теряла самообладание, то вновь обретала его, отвечая на мои непристойные вопросы сдавленным шепотом или пытаясь с жалкой улыбкой выкрутиться за счет не относящихся к делу деталей, а я скрипел и скрежетал коренными зубами, пока моя челюсть едва не взрывалась от острой, невыносимой боли, которая казалась все-таки предпочтительней тупой, ноющей боли смирившегося отчаяния.