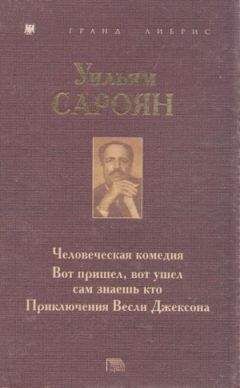Ей-богу, я даже почувствовал благодарность за его доброту. Какое все-таки сложное существо человек: только что я умирал от усталости и желания лечь в постель, меня прямо-таки тошнило от презрения к этому типу, так он был ничтожен, и вдруг я преисполнился к нему благодарности только за то, что он сказал: «Все зависит от вас самих». Благодарности за признание, что и я к этому делу как-то причастен, что и я — реальная личность. Я даже загорелся желанием отличиться и доказать ему, что уж если мне поручат какое-нибудь дело, так ведь я такой человек, что в лепешку расшибусь, лишь бы угодить кому следует.
— Так точно, сэр, — гаркнул я.
— Ну вот, — сказал он, — обдумайте. Один неверный шаг и — вы понимаете…
Он щелкнул пальцами, и мне показалось — я его понял, однако немного позже убедился, что ничего не понимаю, и разозлился сам на себя, что вообразил тогда, будто понял. Хотел бы я знать, какого черта он имел в виду, когда щелкнул этак пальцами перед моим носом.
— Это все, — сказал он.
Я козырнул, повернулся кругом и подошел опять к сержанту.
— Можно теперь идти?
— Ты должен еще койку закрепить за собой, — сказал он. — Ну да ладно, можешь отложить до понедельника.
Я вышел на улицу и поехал на метро в город. Когда я пришел домой, Виктор уже спал. Вдруг он открыл глаза, но не шевельнулся.
— Убийство! — сказал он и тут же закрыт глаза и опять заснул.
Я взял гостиничную библию и стал перелистывать и набрел на книгу Екклесиаст, в которой говорится, что все — суета сует. Но, по-моему, тут уж ничего не поделаешь. Раз мы живем, мы не можем не гордиться этим, какова бы ни была наша жизнь. А лев живет, не зная, как он красив. Орел живет, не зная, как он быстр. Роза не знает, что такое роза. Она не гордится благоуханием своим, и смрад ее разложения не угнетает ее.
А человек знает, что такое лев, и орел, и роза. Он постиг все сущее, и при виде упадка и разложения душа его омрачается и слезы выступают у него на глазах.
Знание — вот откуда суета, но это, вероятно, лучше, чем незнание.
Когда я заболел пневмонией, я впервые ощутил близость смерти, и мне это не понравилось. Я никогда еще не болел так серьезно. Болезнь была для меня школой, в которой я постиг бездну горькой премудрости. Японского мальчика, что просиживал возле моей постели, я воспринял как самого себя — безмолвного, терпеливого, страждущего и обреченного. Маленький высохший апельсин, который он мне подарил, был даянием божьим, человек принес его в дар человеку в знак их общности, в знак того, что они ничто перед богом. В бреду я узнал много разных вещей, которым не научаешься, читая книги, и я дал себе клятву вспомнить о них, когда встану с постели. Слова, которые я слышал во сне, складывались в какую-то могущественную книгу, языка которой я прежде не изучал и все-таки понял: «Живи, да не прервется дыхание твое. Войди в цветущие розами сады, вдохни благоухание царственной розы. Пойди в городские винодельни, выпей чашу пурпурной дурманящей влаги. Да будет рука твоя правая чашей для груди возлюбленной жены твоей. Пальцы левой руки твоей сплети с пальцами ее левой руки, и уста свои сливай с ее устами от вечерней зари до утренней».
Но это не те слова, что я слышал во сне. Это одна шелуха от них. Все же я из числа созданий тщеславных, и быстроту орла, о которой он не знает, я называю своей, и величавость льва, о которой он не ведает, тоже называю своей. Я не одинок во вселенной, я сын многих, брат большинству людей и притязаю на их сестер. Лев не знает меня, но я его знаю. Орел мной не любуется, но я любуюсь орлом. Люди создали меня и забыли, но я помню их. Нужда, страдание, смерть создали их и меня, но мы живем и жить будем. И хотя нет более суетной заботы, чем старание сохранить себе жизнь, это суета благая, ибо она выливается в песню, а волнение плоти моей влекло меня к плоти женской.
И вот, лежа в больнице, на краю смерти в горячечном бреду, я дал себе клятву, что встану с постели и пойду к женщине, и я это сделал, но, увы, мне не так посчастливилось, как я ожидал.
Глава семнадцатая
Весли Джексон сближается с современной женщиной
Как-то вечером в баре на 4-й авеню я познакомился с одной женщиной, и она попросила меня проводить ее домой в два часа ночи, когда бар закрылся.
В бар этот я заглянул, чтобы посмотреть, нет ли там одного старого ирландца, с которым я познакомился накануне; он показался мне человеком замечательным; мало кто умел разговаривать так, как он.
Когда он узнал, что моя мать ирландка из Блэкрока, графство Дублин, и что ее звали Кетлин, он сказал:
— Значит, вы тоже ирландец, все равно, где бы вы ни родились и кем бы ни предпочли считаться.
Я ему объяснил, что мой отец англичанин и родился в Лондоне, но старик сказал, что это не так.
— Все равно, это в нем от ирландцев — то, что вывело его в люди. В какой части Лондона он родился?
Я сказал, что не знаю наверное, но, помню, отец что-то говорил про Ист-Энд.
— Это в Лаймхаузе ваш отец появился на свет, — сказал старик. — А в Лаймхаузе полно ирландцев. Как его зовут?
— Бернард Джексон.
— Ирландец! А у вашей матери, кроме Кетлин, есть другое имя?
— Арма.
— О, ирландка, и вы сами ирландец по виду. Где вы родились и как вас окрестили?
— Родился я в Сан-Франциско, а имя мне дали Весли.
— Город католический и полон ирландцев, но имя протестантское, шотландское. Кто вам дал это имя?
— Отец.
— Вероятно, у него были какие-нибудь основания, ну а если оснований не было, тогда уж несомненно он ирландец, а не англичанин.
Так вот, я на следующий вечер зашел туда опять, в надежде застать там этого старика, но он не показывался, пока я там сидел и пил, зато эта женщина была там все время, около трех часов подряд.
Когда она попросила меня проводить ее домой, я очень удивился, потому что никак не думал, чтобы такая элегантная дама могла себе позволить что-либо подобное, но я был рад, что ошибся.
Оказалось, что она живет возле реки, в восточной части 2-й авеню. Квартира занимала два этажа. Обстановка была на редкость хорошая — все такое старое, добротное, удобное и приятное на вид. Женщине этой было чуть-чуть за тридцать, у нее был сын одиннадцати лет в частной школе; ее бывший муж, с которым она развелась, оставался ее лучшим другом; она была художницей-моделисткой и преуспевала в своей профессии.
Была она не ахти какая красавица, но с изюминкой: поглядит этак лукаво, озорно улыбнется и болтает всякие глупости.
Она наполнила бокалы, и я осушил свой залпом, как будто это была вода.
— Теперь вы расскажите о себе, — сказала она.
Я взял из ее рук бокал и поставил его на столик. Потом расстегнул молнию на жакете, плотно облегавшем ее фигуру, и скинул его на пол. За жакетом последовала юбка, она переступила через нее и все время повторяла:
— Но вы должны рассказать о себе…
А по-моему, с рассказом спешить было некуда, поэтому я не отвечал.
Лучшего места для приятного времяпрепровождения, чем у нее на втором этаже, я не видывал даже в кинокартинах.
В пять часов утра я принял душ, поцеловал ее на прощание и поспел в казармы как раз к подъему.
Мы с Виктором Тоска отправились позавтракать за три квартала, в наш любимый ресторанчик, где было приятно посидеть и послушать музыку, опустив монетку в музыкальный автомат. В эти темные утренние часы в Нью-Йорке мы любили послушать песенку «Зачем же так нехорошо?» В ней говорилось, как один человек в 1922 году заработал много денег и разбрасывал их на дурных женщин, а хорошая женщина спрашивает его, зачем он так нехорошо поступает, а потом и говорит: пойдем, дескать, отсюда, дай мне тоже немножко деньжат.
Мы, бывало, как только войдем, сейчас же и опустим монетку в автомат, чтобы послушать эту песенку: такая она была шумная, веселая, что сразу как будто теплее становилось.
За стойкой там работая старик русский. Он, казалось, всегда был рад нашему приходу, точно мы давали ему знать, что ночь прошла. Ресторанчик был его собственный, и он вечно жаловался на прислугу: люди, дескать, не так преданы делу, как он сам.
— Никак не найду подходящих, — говорил он. — Перевелись порядочные люди. Самому все делать приходится.
Я заказал старику яичницу из четырех яиц с добрым куском ветчины, и когда мы уселись за стол, Виктор спросил:
— Где ты пропадая сегодня ночью?
— Переспал тут с одной наконец.
— Ну и как?
— Просто здорово.
— А что это за женщина?
— Мы познакомились в баре.
— Из каких же она?
— Из общества, порядочная.
— Ври больше.
— Как ты думаешь, что это с ней приключилось?
— О чем это ты, не пойму?
— Да вот, вдруг выбрана меня?
— А почему бы и нет?
— Да ведь я страшен как черт.
— Вот еще, ты совсем ничего. Думаешь еще с ней встретиться?