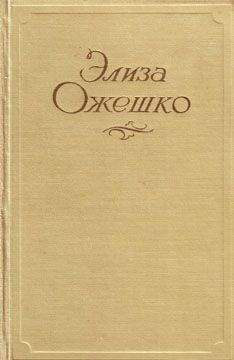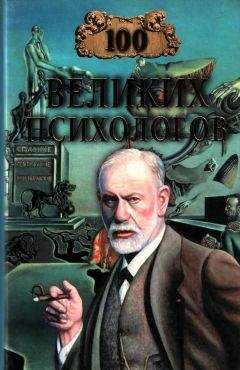Она с таким увлечением говорила об этом дворце и с таким жаром превозносила талант сына, что сама начинала верить своим выдумкам. Глаза ее снова блестели, она то повышала голос, то снижала до шепота и, охваченная чувством гордости, выпрямлялась и молодела. Но вдруг неожиданно она прерывала свой замечательный рассказ, веки ее начинали дрожать, губы дергались. Она хватала ведро и без всякой видимой надобности бежала за водой или же, бросившись вон из кухни, пряталась в дровяном сарае, откуда вскоре появлялась с охапкой дров.
Волшебный дворец, возникавший на время в ее воображении, рушился, как карточный домик, вместе с лесами, на которых вдохновенно и изящно орудовал лопаткой молодой стройный рабочий.
Для иных своих знакомых она придумывала новую ложь. Уверяла, будто сама отправила Михалка в деревню к родным. Там якобы живут его тетки, — они души в нем не чают, — а также и двоюродные братья, зажиточные хозяева, которых он обязан хоть изредка навещать, потому что они очень любят и ее и Михалка. Про эту родню, так же как и про дворец, она распространялась долго и со всевозможными подробностями. Она снова начинала верить собственным выдумкам, снова на ее лице отражались счастье и гордость, снова выпрямлялась согнувшаяся спина, но вдруг опять без всякой надобности она убегала в сарай и там за грудой дров ломала руки так, что суставы хрустели, и горестно шептала:
— Ох, нет у меня ни теток, ни братьев, никакой родни, даже ни одной близкой души нет… Ох, несчастная я сирота, одинокая на этом свете!.. На моих глазах погибает дитя родное!..
Когда к ней не приставали с вопросами, Романо́ва молчала и только тем, к кому она питала особое доверие, таинственно шептала на ухо:
— Чем все это кончится? Чем все это кончится?
Подперев рукой лицо, покрытое багрово-красными пятнами, она впивалась в своего собеседника взглядом смертельно раненного животного:
— Ведь эти окна… в том переулке… это же, моя пани, чисто волчьи глаза! Помнится, как-то ночью мы ехали с Романом лесом, и вдруг, смотрю, что-то блестит в кустах!.. Роман говорит: «Это волк!» Меня прямо в дрожь бросило от страху, а он посмеивается… ей-богу, увидал волка и засмеялся. Не из трусливых был… «Не бойся, говорит, колокольчик спугнет зверя». И верно, волк убежал, услыхав звон колокольчика. Так вот и теперь, когда я прохожу тем переулком, мимо той двери и того окна, меня бросает в дрожь, как тогда ночью, в лесу, при виде волка… Да, это волчьи глаза… совсем волчьи…
По лицу ее можно было догадаться о том, чего объяснить на словах она не умела: в городе есть волк, который пожирает ее дитя, но вырвать его из волчьей пасти она не в состоянии, хотя и пробовала не раз. Иногда, по вечерам, покончив со всеми делами и накинув на голову платок, она спешила в город. По целым часам бродила она взад и вперед по переулку вдоль заборов и стен убогих домишек, часто останавливаясь у двух желтых светящихся точек, беспокойно металась возле них, то прислушивалась у окна, то подходила к самой двери.
Жужук, узнав ее в темноте, спрыгивал со ступеньки и, прижимаясь к ней, тихо и жалобно скулил. Если она отходила, пес неотступно следовал за ней. Случалось, что эти два несчастных существа ходили друг за другом почти всю ночь, но бывало и так, что женщина энергичной и решительной поступью входила в кабак, а за ней старалась незаметно прошмыгнуть совсем пришибленная собака.
Что происходило за этой дверью и за этим окном — неизвестно; но примерно через четверть часа женщина выходила оттуда, прикрыв рот концом головного платка, вероятно для того, чтобы заглушить рыдания, а собака выбегала с пронзительным визгом, съежившись и поджав одну лапу. После каждой такой безуспешной попытки вырвать свое дитя из волчьей пасти Романо́ва, на какое-то время совсем лишившись памяти и способности думать, превращалась в подобие автомата, двигавшегося лишь по инерции. Обычно очень усердная в работе, исполнительная, она совершала оплошности, простить которые можно было только из сочувствия к ее несчастью.
Все это было вызвано, конечно, не ленью, а рассеянностью и подавленным настроением, доводившим ее до полного отупения. В такое время она относилась спустя рукава не только к своим обязанностям, но и к себе самой — не умывалась, не причесывалась, не переодевалась. Из-под полинявшего платка или грязного чепца свисали на лоб растрепанные волосы; в расстегнутой на груди кофте и в старых галошах она двигалась бесшумно, медленно, как лунатик. И только красные пятна, выступившие на ее поблекшем лице, и руки, которые она заламывала с такой силой, что хрустели суставы, говорили о том, какие безмерные муки терзают это неряшливое, отупевшее существо.
В одно прекрасное утро, нежданно-негаданно, она снова превращалась в прежнюю жизнерадостную Романо́ву. Бывала, как раньше, бодрой, оживленной, двигалась легко и быстро; в ярком платке или белом чепце на голове, умытая, причесанная, в чистом переднике, с лицом посвежевшим, разрумянившимся, она без умолку тараторила и смеялась, и глаза ее весело блестели. Даже в те минуты, когда она молчала, казалось, что ее вздернутый нос и подвижные морщинки на лбу тоже смеялись и радовались.
Значит, накануне вечером или ночью вернулся Михал. Приходил он, однако, в довольно жалком состоянии.
Оборванный, босой, с взлохмаченными волосами, из которых торчали солома и пух, но почти совсем трезвый, хотя от него и разило водкой, он останавливался в дверях с видом человека, сознающего свою вину и не смеющего переступить порог. Во взгляде, блуждающем по углам кухни, казалось, сквозила мольба о пощаде. Увидев сына, мать кидалась к нему на шею с громким криком, в котором слышались и смех и рыдание, и, схватив его за руку, тянула к скамье. Когда он, наконец, садился и, теребя одной рукой фуражку, другой рассеянно поглаживал Жужука, она начинала суетиться. Прежде всего стелила для него на полу за печкой свою постель. Ведь совершенно невозможно было ему показаться людям на глаза без приличной одежды, с опухшим лицом, покрытым синяками! Придется ему полежать за печкой до тех пор, пока он снова не станет похожим на человека.
Она помогала ему снять висевшие на нем лохмотья, укладывала его на постель за печкой, а затем ставила самовар и разогревала еду, которую ежедневно приберегала на случай его возвращения. Еду и чай она подавала за печку, и там, в полумраке, при скудном свете кухонной лампочки, они беседовали. Говорили тихо, почти шепотом; разговор их прерывался звуками поцелуев, всхлипываниями и настойчиво повторяемыми обещаниями и клятвами. Он каялся, она его утешала; иногда позвякивала чайная ложечка, ударившись о стакан.
Если бы кто-нибудь заглянул в эту минуту за печку, то увидел бы, как женщина, сидя на полу, поит чаем с ложечки растянувшегося тут же на полу мужчину. Поила она его, как грудного младенца, и по ее озаренному улыбкой лицу текли слезы. Иногда из темноты показывалась его большая красная ладонь с грубыми пальцами, он брал руку матери и крепко прижимал к своим губам. Так проходил час, другой, а потом сонный мужской голос произносил:
— Мама, накормите, пожалуйста, Жужука.
Мать мигом вскакивала и, поставив перед Жужуком остатки похлебки с костями, которые тот с жадностью уничтожал, с улыбкой гладила собаку по слипшейся от грязи шерсти.
На следующий день, встречая людей, знавших ее тревожные мысли о «волчьих глазах» и о том, «чем все это кончится?», она, оживленно размахивая руками, с ликующим видом таинственно шептала:
— Теперь уже все обязательно наладится. Он дал клятву, что больше никогда не будет… ей-богу… И клятву свою на этот раз, как бог свят, сдержит!.. О, я его хорошо знаю и уверена, что теперь-то он слова своего не нарушит…
Затем, улучив свободную минуту, она мчалась в город и на свои сбережения — на себя она ведь почти ничего не тратила — покупала сыну все необходимое: пиджак, пальто, фуражку, а частенько и сапоги. Приобрести ей это удавалось по дешевке, у старьевщика. Приодев сына, дав ему отлежаться за печкой, Романо́ва отправлялась с ним к заутрене и, как она любила говорить, водила его к исповеди. После каждого возвращения Михалка из продолжительного, хотя и недалекого путешествия он неизменно отправлялся к исповеди: кроткий и послушный, как ребенок, парень покорно шел в костел; преклонив колени, усердно молился, бил себя кулаком в грудь и возвращался домой вместе с матерью. В кухне, наедине с ним, мать зорко оглядывала его с головы до ног. Он снова был таким же, как и прежде… Освещенный проникавшими в окно кухни лучами утреннего солнца или отблеском ярко сверкающего света, он стоял высокий, стройный, сильный, прилично одетый. На губах его играла открытая, обаятельная улыбка, в живых глазах светился ясный ум. В такие минуты она не целовала, не обнимала его, а только медленно подходила, гладила рукой по плечу и, пристально глядя на него, говорила: