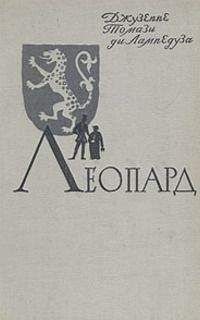— Мы не слепы, дорогой отец, но мы люди. Мы живем в мире изменчивом и стремимся к нему приспособиться, подобно водорослям, гнущимся под напором морской волны. Святой церкви самым недвусмысленным образом обещано бессмертие; нам же, как социальному классу, оно не дано. Для нас этот паллиатив, который обещает продлиться сто лет, равнозначен вечности. Мы можем еще тревожиться о судьбе наших детей, даже наших внуков, но наши обязательства кончаются теми, кого мы надеемся еще ласкать вот этими руками. Я не хочу ломать себе голову, кем будут мои потомки в тысяча девятьсот шестидесятом году. Церковь — другое дело, церковь должна об этом заботиться: ей суждено бессмертие. В ее отчаянии таится утешение. Не думаете ли вы, что церковь принесла бы в жертву нас, если 6 могла такой ценой спастись сейчас или в будущем? Конечно, церковь пошла бы на это и поступила бы правильно.
Падре Пирроне был рад, что не обидел князя, и сам решил не обижаться. Мысль об «отчаянии церкви» недопустима; но давняя привычка исповедника помогла ему оценить горький юмор дона Фабрицио. И все же собеседнику не следовало торжествовать.
— В субботу, ваше превосходительство, вам надлежит исповедаться мне в двух прегрешениях: вчерашнем плотском грехе и в греховном помышлении сегодня. Помните об этом.
Теперь, когда оба несколько успокоились, настало время обсудить сообщение, которое следовало вскоре послать одной иностранной обсерватории в Арчетри. Казалось, звезды, поддерживаемые и направляемые цифрами, невидимые в этот час и все же существующие, бороздили эфир, слепо следуя своей траектории. Верные назначенным Свиданиям, кометы привыкли с точностью до последней секунды являться глазам тех, кто их наблюдает. И они не были вестницами катастроф, как полагала Стелла; напротив, их предвиденное появление означало торжество человеческого разума, который рвался ввысь и принимал участие в прекрасной повседневной жизни светил.
«Пусть там внизу Бендико гоняется за деревенской дичью, пусть поварской нож крошит мясо невинных животных. С высоты обсерватории бахвальство Бендико и кровожадность повара сливаются в спокойной гармонии. Подлинная цель — жить жизнью духа, в, ее наивысших проявлениях схожих со смертью».
Так рассуждал князь, забывая о своих всегдашних сомнениях, о вчерашней прихоти собственной плоти. Быть может, за эти минуты отрешенности, когда вновь укреплялась его связь со вселенной, князю отпускалось больше грехов, чем от благословения падре Пирроне.
В то утро божества на потолке и обезьянки на обоях снова должны были молчать полчаса, но в гостиной этого никто не заметил.
Когда звонок, призывающий к обеду, заставил князя с иезуитом спуститься вниз, оба они испытывали умиротворение, не столько от понимания политической конъюнктуры, сколько от сознания, что они взирают на нее с высоты. На вилле Салина воцарилась атмосфера необычайного покоя. Подававшийся в полдень обед — основная за день еда — прошел, благодарение господу, совсем гладко. Представьте, у двадцатилетней дочери князя, Каролины, с шеи прямо в тарелку слетела небрежно приколотая брошь. Инцидент, который в иные дни грозил бы неприятными последствиями, сегодня послужил лишь поводом для общего веселья: даже князь милостиво улыбнулся, когда брат девушки, сидевший рядом с ней, поднял брошь и приколол ее к своему воротнику, где она болталась, как маятник.
Об отъезде Танкреди, месте, куда он отправился, цели его поездки уже было известно всем, и все только об этом и говорили. Один Паоло продолжал есть, храня молчание. Впрочем, кроме князя, затаившего в глубине сердца легкую тревогу, никто не был взволнован его отъездом; лишь на красивый лоб Кончетты легла тень.
«Должно быть, девушка немного влюбилась в этого плута. Ну, что ж, пара неплохая. Боюсь, однако, что Танкреди метит повыше, то есть я хочу сказать — пониже».
Теперь, когда политическое успокоение разогнало туман, скрывавший природное добродушие князя, это качество смогло проявиться в полной мере.
Желая успокоить дочь, он принялся объяснять, насколько никчемны ружья королевской армии; говорил о недостатках нарезки ствола этих огромных винтовок, о том, какой слабой пробивной силой обладают выпущенные из них пули; то были чисто технические объяснения, вдобавок не очень добросовестные, понятые немногими и никого не убедившие, но тем не менее утешившие всех, включая Кончетту, потому что благодаря им удалось превратить войну из того предельно очевидного грязного хаоса, каким она является в действительности, в чистую диаграмму сил.
К концу обеда подали желе с ромом — любимое сладкое блюдо князя. Княгиня, признательная за доставленное ей утешение, позаботилась заказать его еще рано поутру. Желе походило, на большую грозную башню, окруженную рвами и бастионами, по гладким и скользким стенам которой нельзя было вскарабкаться. Крепость оборонял зелено-красный гарнизон из вишен и фисташек, была она прозрачной, вздрагивала при малейшем прикосновении, и ложка погружалась в нее с поразительной легкостью. Когда благоухающая фортеция добралась до шестнадцатилетнего Паоло, которому за столом подавали последним, она напоминала развороченные глыбы с еще видневшимися бойницами. Упоенный ароматом рома и тонким вкусом раскрашенных защитников крепости, князь насладился вдоволь приняв самое деятельное участие в разрушении мрачной скалы, не устоявшей под натиском Здоровых аппетитов. Один из бокалов князя был до половины наполнен марсалой. Князь поднялся, оглядел всю семью, на мгновение задержавшись на голубых глазах Кончетты.
— За здоровье нашего Танкреди, — сказал он и залпом выпил вино. Буквы «Р. О.», прежде четко выделявшиеся на золотом фоне налитого в бокал вина, теперь совсем потускнели.
В контору, куда он снова спустился после обеда, лучи света теперь падали косо, оставляя в тени картины с изображением поместий, и князю более не пришлось испытывать угрызений совести.
— Ваше превосходительство, благословите, — пробормотали Пасторелло и Ло Нигро, арендаторы из Рагаттизи, принесшие «мясо» — то есть ту часть оброка, которая вносилась натурой. Они стояли перед князем навытяжку и изумленно глядели на него. Их лица были опалены горячими лучами солнца. От них шел запах скотного двора. Князь сердечно побеседовал с крестьянами на своем тончайшем диалекте, расспросил их о семьях, о состоянии скота, о видах на урожай. Затем осведомился:
— А вы что-нибудь принесли?
Покуда они отвечали («Да, все принесено и сложено в соседней комнате»), князь испытал некоторое чувство стыда; ему показалось, что беседа с крестьянами стала повторением аудиенции у короля Фердинанда.
— Подождите минут пять, и Феррара выдаст вам расписки.
Затем он вложил каждому в руку по два дуката, что, вероятно, превышало стоимость принесенного.
— Выпейте по стаканчику за наше здоровье. — И пошел взглянуть на оброк.
На полу лежали четыре головы сыра «первосола» по десять кило в каждой; равнодушно поглядел на него — он терпеть не мог этого сыра; тут же лежало шесть забитых ягнят, последних в этом году; над широкой ножевой раной, из которой несколько часов тому назад ушла жизнь, патетически свисали головы. Брюхо у них тоже было вспорото, лиловые кишки торчали наружу.
— Господи, упокой душу его, — прошептал князь, вспомнив о выпотрошенном солдате, труп которого обнаружили месяц тому назад. С полдюжины куриц, привязанных за лапки, корчились от страха при виде усердно вынюхивавшей морды Бендико.
«Вот еще один пример напрасного страха», — подумал князь. Собака не представляет для них ни малейшей опасности, она и к косточкам их не притронется, знает, что живот заболит.
Однако зрелище крови вызвало в нем отвращение.
— Ты, Пасторелло, отнесешь куриц на курятник, в кладовой сейчас нет в них нужды; в другой раз ягнят занесешь прямо на кухню, здесь от них грязь. А ты, Ло Нигро, отправляйся к Сальваторе, скажи, чтоб пришел сюда прибрать да унес сыр. И окно открой, пусть хорошенько проветрится.
Затем появился Феррара, который приготовил расписки.
Поднявшись к себе, князь застал Паоло, своего первенца, герцога Кверчета, который ждал его в кабинете, где князь обычно отдыхал после обеда на красном диване. Молодой человек собрал все свое мужество и хотел поговорить с ним. Низкого роста, худенький, с лицом оливкового цвета, он казался старше отца.
— Я хотел спросить тебя, папа, как нам держаться с Танкреди, когда мы свидимся? Князь сразу все понял и вскипел.
— Что ты хочешь этим сказать? Что изменилось?
— Но, папа, ты же, конечно, не можешь одобрить его поступка: он отправился к этим, мошенникам, которые взбаламутили всю Сицилию; так не поступают.
Личная зависть, злоба труса, направленная против смельчака, ненависть тупицы к живому уму, прикрытые одеждой политических доводов! Князь был настолько возмущен, что даже не предложил сыну сесть.