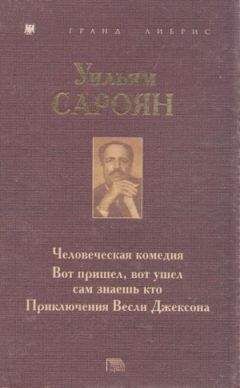— Письмо товарищу.
— Не слишком ли длинное, а?
— Иногда я пишу и длинные письма.
— А вы ничего не будете иметь против, если я его прочитаю?
— Конечно нет, что вы!
Писатель сел и прочел все, что я успел написать.
— Никто вам никогда не говорил, что вы писатель? — спросил он.
— Священник один говорил, из той церкви, в которую я ходил в Сан-Франциско.
— Так вот, я вам скажу то же самое.
— Письма-то я пишу хорошо.
— Все, что человек ни напишет, это и есть письмо. Напишите письмо ко всем.
— А что я им могу рассказать?
— Да то же, что и Виктору рассказали. Вы первый писатель, которого я встретил здесь, в армии.
Глава двадцать пятая
Весли приглашает писателя познакомиться с отцом, а того и след простыл
Однажды мне не удалось съездить вечером в город к отцу, так как весь день я провел в кухонном наряде и отделался только незадолго до десяти; ехать было уже поздно. На следующий вечер я отправился в город вместе с писателем, чтобы познакомить его с отцом, но, когда мы вошли в лифт, лифтер сказал, что отец выехал из гостиницы.
Я подошел к конторке и спросил портье, нет ли для меня какой-нибудь записки. Он ответил, что нет. Я спросил его, когда отец освободил номер, и портье сказал — поздно вечером накануне.
— Он был пьян?
— Выпивал перед этим.
— А в комнате остались какие-нибудь вещи?
— Нет. Он ушел с чемоданом.
А я-то думал, что теперь с отцом все в порядке и что так оно будет и дальше. Я так удивился, не застав его в гостинице, что даже подумал, нет ли тут какой-нибудь ошибки, и решил подождать его в вестибюле.
Писатель поговорил с портье, и скоро официант из буфета в конце вестибюля явился с бутылкой и льдом, и мы выпили.
Пока мы пили, мне все почему-то казалось, что отец с минуты на минуту войдет в вестибюль, но вот уже пробило десять — время возвращаться в казармы — и мы уже почти опустошили бутылку, а отца все еще не было.
— Нам осталось всего четверть часа, — сказал писатель. — Я пойду за такси.
Вот уже семнадцать минут одиннадцатого. Если шофер будет гнать вовсю, мы еще успеем за несколько минут до вечерней поверки. Но писатель, видимо, не очень-то спешил, а мне и вовсе не хотелось возвращаться в казарму. Меня тошнило от армии. Тошнило от обязанности все время куда-то поспевать. Тошнило от старания стать тем, чем я не был, чем не только не хотел, но и не мог быть, — заключенным. «Ну, — сказал я себе, — не предадут же меня военному суду. Не сошлют же на каторгу. Не уйду, пока не увижу отца».
Было уже двадцать минул одиннадцатого, я понял, что мы все равно не успеем, и налил себе еще стаканчик. Семь бед — один ответ, пропадать, так с музыкой!
Писатель встал и пошел за сигаретами. А когда вернулся, сказан:
— Сегодня мы можем не являться в казармы, но в шесть утра, к подъему, должны быть. Я звонил по телефону, чтоб узнать, кто дежурный по казармам, и оказывается, это Блэнден. Я ему говорю — мы с вами не сможем поспеть к одиннадцати, как он на это посмотрит? Он говорит — ладно, но ему влетит, если нас не будет к подъему.
Он вышел на улицу, расплатился с шофером такси, и машина ушла. Тогда он вернулся и сел на место, и мы продолжали пить. Прикончив бутылку, мы пошли поискать ночное кафе.
— Если отец придет, пока меня не будет, — сказан я портье, — передайте ему, чтобы подождал меня здесь, я скоро вернусь.
Поев яичницы с ветчиной и выпив кофе, мы вернулись в гостиницу. Всю дорогу я молился, чтобы отец оказался там, но его не было. Мы просидели в вестибюле до пяти утра. Просто сидели и ждали. До четырех часов почти не разговаривали. К этому времени мы слегка протрезвились, и я просто не мог больше удерживаться и рассказан писателю про отца, как он вечно вдруг исчезал, ни слова не сказавши матери, когда они еще жили вместе, или мне, когда мама его оставила. Писатель не говорил ни снова, только слушал, но у меня было такое впечатление, будто мы с ним разговариваем, хотя говорил только я один. Я сказан ему, что не знаю, что именно заставляет отца уходить вот так иногда из дому, но продолжается это с тех пор, как я себя помню.
В пять часов я написал отцу записку и оставил ее портье на случай, если он вернется в гостиницу. После этого мы с писателем взяли такси и поехали в лагерь к утренней перекличке. Когда мы подкатили к лагерным воротам, вышел часовой с автоматом в руках. Утро было мглистое, хоть глаз выколи, моросил мелкий дождь со снегом. Часовой крепко спал, когда вдруг перед ним появилась машина. Он растерялся и испугался до смерти, руки у него дрожали, но застрелить он нас не застрелил.
Мы выстояли перекличку и пошли в столовую, но есть я не мог. Я посидел с писателем, пока он выпил кофе, затем мы пошли к нашим столам. Я положил голову на руки и заснул.
Вечером я опять поехал в гостиницу, но отца там все не было. Я сел и стал писать ему письмо, но, прописав подряд два часа, понял, что это глупо, сложил листки, положил в карман куртки и пошел искать отца по городу.
Я переходил из одного бара в другой, но отца нигде не было, а уже перевалило за десять. Я позвонил в лагерь, чтобы узнать, кто дежурит по казармам. Это был кто-то мне незнакомый. Я просил его оказать мне услугу и не отмечать моей неявки, но он сказал:
— Вы в армии, дружище. Если вас не будет на койке в одиннадцать часов, ответите за самовольную отлучку.
Есть же в армии такие люди! Я так разозлился, что повесил трубку и решил совсем не возвращаться в казармы — ни к утренней побудке, вообще никогда. Пускай меня возьмет военная полиция.
Глава двадцать шестая
Весли совершает самовольную отлучку и встречает женщину, поющую в снегу «Валенсию»
Я бродил из одного конца города в другой. Около полуночи пошел снег, и ненавистный мне город преобразился.
Свежий снег покрыл уличную слякоть, все стало белым, молчаливым. Я зашел еще в несколько баров, выпил в каждом по стаканчику-другому, разглядывал людей, прислушивался к их разговорам. Выйдя из одного бара, я решил наконец пойти в гостиницу и, если отца все еще нет, снять его комнату и лечь спать — и сохранить ее для него, пока он не вернется, а если он больше не вернется, оставить ее за собой. Это была славная комнатка, мне было в ней уютно, как дома.
По дороге в гостиницу я повстречал женщину: она вышла из бара, распевая, как пьяная, — а у меня даже сердце остановилось, потому что пела она «Валенсию», мою песню! Песню, которую я перенял от отца. Я так в нее и вцепился.
— Откуда вы знаете эту песню?
Женщина уставилась на меня и улыбнулась, и тогда я обнял ее и поцеловал, оттого что я здорово выпил и очень устал, а она была от меня так близко.
— Вы должны мне сказать, — настаивая я. — Где вы слышали эту песню? Кто-нибудь спел ее вам, правда?
— Пойдем ко мне, — сказана женщина. — Господи боже мой! Пойдем ко мне.
Когда мы подошли к подъезду довольно большого красивого здания, женщина сказала:
— Мой особняк, мой собственный дом.
Я опять ее обнял и поцеловал, а она сказана:
— Господи боже мой!
Навстречу нам выбежала негритянская девушка, одетая, как официантка из хорошего ресторана, и помогла своей хозяйке снять пальто. Посуетившись еще вокруг хозяйки, она убежала с пальто вверх по лестнице. Женщина обернулась ко мне и шепнула:
— Ну-ну, не бойтесь. Зайдем ко мне, посидим, выпьем по рюмочке.
Когда мы поднялись на второй этаж, я увидел, как из одной комнаты вышла какая-то девушка с длинными рыжими волосами и пошла куда-то по коридору. Она была одета в очень дорогое с виду вечернее платье и выглядела такой красивой, что я сказал себе: «Как же я смогу найти когда-нибудь жену, если каждая встречная девушка кажется мне настоящей красавицей? Кто бы она там ни была!»
Хозяйка провела меня в очень большую комнату со множеством стильной мебели, кабинетным роялем и тремя телефонами на столе. Спустя немного в комнату вошла негритянка и закрыла за собой дверь.
— Все в полном порядке, мисс Молли, — сказала она.
— О'Коннор звонил?
— Звонил, мэм.
— Что он сказал?
— Просил вас позвонить.
— Кто-нибудь в доме есть?
— Только одна Мэгги, и она сейчас уходит.
— Хорошо, Дэзи, — сказала женщина. — Я буду дома, если что понадобится.
Негритянка вышла и вскоре вернулась с большим серебряным подносом, заставленным всякой всячиной. Она поставила его на маленький столик и опять ушла, а хозяйка спросила, с чем я буду пить — с водой или содой. Я сказал — с водой, и она мне приготовила виски с водой. Это была красивая женщина, с гордо посаженной головкой и уложенными на затылке волосами. Тело у нее было пухлое, мягкое, руки — полные, белые, кисти рук — маленькие, с толстенькими пальчиками. Ей было приблизительно столько же лет, что и моей нью-йоркской знакомой, но это была совсем другого типа женщина.