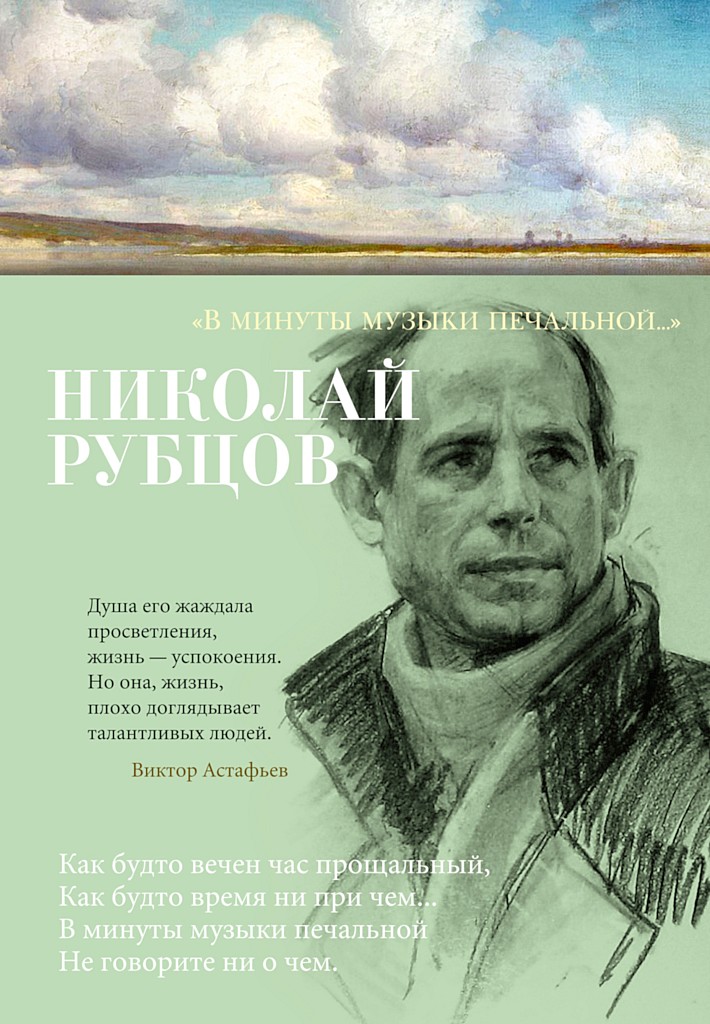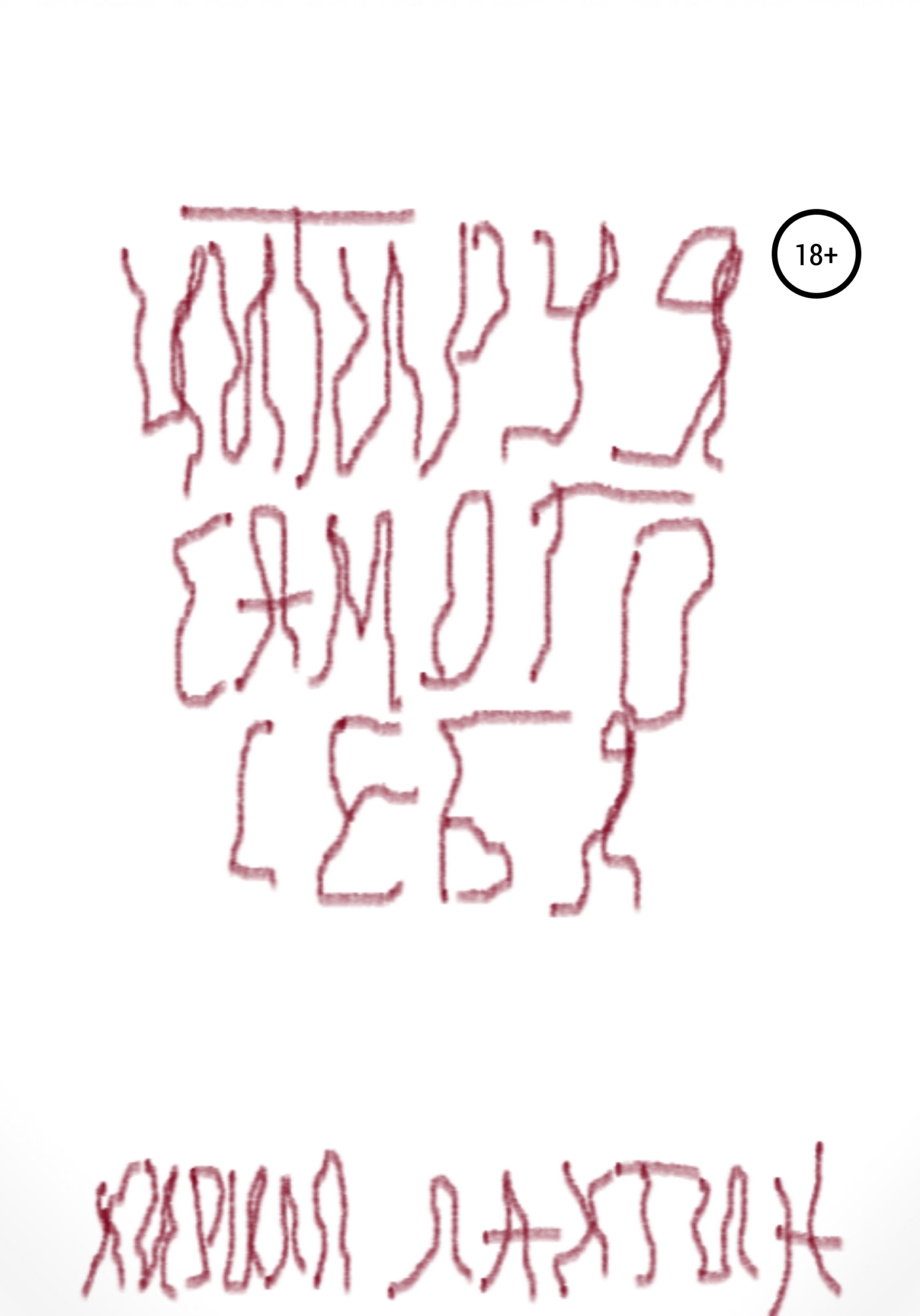нутру они были, однако видит он, что со старцем ничего не поделаешь, потому за ним стоит сила великая, и говорит ему: «Быть так, даю тебе грубияну пардон, живи только смирнехонько».
Так прикладывал Чудила свою притчу к не помнящим родства:
– То ж и наш брат не от вольной воли в лесах темных спасается, не от сладкого житья по оврагам галок ловит. Растопыривай карман шире! Гонит-то нас в шею доля наша окаянская, а под бока толкает нужда заплатанная. С зверьми-то не больно всласть жить, человек к человеку льнет, только вдругорядь ничего не поделаешь, окромя стрекача задать. А коли человек в бегах состоит, так он и погибать должон?.. А Бог-то на что? А люди-то добрые?
– Да ведь не все добрые?
– Что толковать: не без греха. Вдругорядь наскочишь на такого пострела, что он, чем бы приют дать тебе сирому, пакость сделать норовит. Ну, уж тут и сам не плошай, ухо держи востро. Учи дурня уму-разуму, чтобы знал он и ведал, что супротив вора беглого идти тоже бывает неладно.
– В чем же ученье-то состоит?
Чудила принял невиннейшую физиономию, к которой не шли только заискрившиеся при последних словах глаза, и с улыбкой отвечал:
– Притчу тоже скажем, ну и разжалобим.
Чудила и Ходок оба были отправлены в тюремный замок.
Во время острожного пребыванья резко обозначились характерные свойства обоих бродяг. Чудила прежде всего был своего рода практик жизни, и, как практик, он почти что с первого дня пребывания в остроге вошел в общую колею – постарался обставиться с возможно большими удобствами (насколько, конечно, удобство мирится с острогом). В остроге, как и в миру, удобства приобретаются деньгами, средства же для добывания денег бывают двоякие: незаконные законные и законные. Первые состоят в фабрикации фальшивых билетов, в картах и так далее; вторые в производстве таких изделий, выделка которых не требует «смертоносных» орудий [35]. Подлинно неизвестно, участвовал ли Чудила в незаконном добывании денег (хотя, судя по его уму и выгодам, представлявшимся от такого добывания, с немалой достоверностью полагать можно), но зато тотчас, по поступлении в острог, он пристроился к другому арестанту, мастерившему из рыбьей чешуи и волоса разнообразнейшие штуки; научился его искусству и вскоре явился опасным соперником своего учителя. Этой работой и мелочной внутренней торговлей, перепродажей и куплей, Чудила нашел возможность добывать себе порядочную для арестанта деньгу. Степень постоянного процветания финансовых обстоятельств Чудилы указывалась его костюмом, ни разу не терявшим своей свежести, и тем апломбом, что носит с собой каждый смертный, ощущающий в кармане присутствие презренного металла. Положение, в которое поставил себя Чудило в остроге, было из хороших, как по отношению к предержащим власть, так и по отношению к ходящим под властью: обе стороны видели в нем человека умного, на ногу себе наступать не позволяющего, а потому по-своему уважали его. Правда, подвергали наказаниям не меньше других, пожалуй, даже больше, и Чудилу, но зато когда требовался голос от острожного люда, то этот голос чаще других принадлежал Чудиле, и начальство соглашалось, что, несмотря на притчи и прибаутки, переполнявшие разговорный язык Чудилы, вопрос, им поставляемый, выражался всегда крайне определенно, а результаты его выводов отличались строгой последовательностью и возможностью применения.
На наружности Чудилы острог не оставлял положительно никакого влияния, – смотря на этого веселого господина, можно было подумать, что жизнь и невесть как широко улыбается ему, что над ним нисколько не тяготят те же острожные стены, что не раз сламывали самые крепкие, закаленные организмы.
Говорю: Чудило был постоянно весел, и, благодаря этой веселости, первое знакомство с ним оставляло после себя впечатление, как каждая встреча с наидобродушнейшим в мире человеком, у которого «что на языке, то и на уме», но не таким оставалось впечатление от последующих встреч. Добродушие, шутки и откровенность служили Чудиле не больше как только маской, на самом же деле это была одна из самых холодно-выдержанных, скрытых натур. Чудило принадлежал к числу тех людей, которые, как преступники, отличаются неумолимой, какой-то методической жестокостью. То правда, что людей подобного сорта и понудить-то на преступление, как на все выходящее из уровня обыденности, очень трудно, но зато раз вынужденные, они не останавливаются, во имя своих расчетов, перед исполнением; враждебное столкновение с ними поопаснее, чем с людьми, способными на экзальтацию; в их ударах нет ширины размаха, но зато удивительная точность: прежде чем вступить в последний бой с своим врагом, они его выследят, изучат, узнают все слабые места. Как «шутники», Чудилы так и остаются шутниками при самых кровавых возмездиях, – они никогда не утрачивают способности шутки и смеха.
К противоположному лагерю принадлежал товарищ Чудилы Ходок. Надо было встретиться весьма многим уважительным причинам, чтобы свести вместе обоих бродяг, заставить их идти по одной дороге. Чудило был туп на принятие новых впечатлений, Ходок подчинялся им всецело и скоро: первый ни на йоту не изменился в остроге, неволя, по-видимому, не гнула его; напротив, разухабистости Ходока, подсказывавшей ему остроумные вещи вроде «уроженца города Египта, немецкой нации» и сложившейся под влиянием вольного житья и последних благоприятных обстоятельств (за которые ручались найденные деньги) хватило ненадолго: острог давил его железными клещами. Не больше как через месяц трудно было узнать в зеленом, осунувшемся арестанте, в каждой черте лица которого, в помутившихся глазах, сквозило глубочайшее уныние, прежнего удалого бродягу, «торговавшего буйным ветром в чистом поле». Вечно одинокий, ничем не занятой, Ходок целые дни бродил по острожному двору да смотрел через решетчатые вороты на пролегавшую дорогу. Что думалось, мерещилось Ходоку во время этих бесцельных прогулов, какая мысль неотступно преследовала его, догадаться не трудно: Ходок был человек воли, острожный воздух сушил его грудь, он мог дышать только при других условиях, при другой обстановке. Острог и могила имели почти что одно значение для Ходока. От шуток Чудилы, от его веселой беззаботности часто отдавало холодом, в них не имелось искренности, они только ширмой служили для отвода глаз постороннего наблюдателя; напротив, стоило только взглянуть на Ходока, следить, как видимо хилел, чахнул он, чтобы понять, что это человек непосредственного чувства, лихорадочных параксизмов, человек, в котором по самому свойству его натуры неблагоприятные явления жизни отдаются болезненнее, чем в каком-либо другом. Уголовные преступления, совершаемые под влиянием и действием страсти и увлеченья, чаще всего принадлежат людям с данными Ходока: они не умеют и не могут обходить пропасть, не могут выжидать, приливы крови мешают им проверить совершающееся. Совершенное же преступление болезненно отдается в таких людях, справедливость собственного суда, выразившегося в факте преступления, для