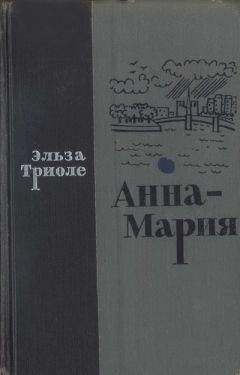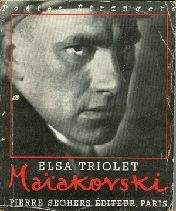Библиотека располагалась в камере более светлой, чем остальные; она выходила во двор, как раз против ворот, но свет в нее проникал сквозь слуховое окно, из которого видно было только небо. Солнце припекало Роберу макушку, розовая кожа на ней просвечивала сквозь волосы, светлые и редкие, как у новорожденного. Он сидел за столом и записывал в тетрадь выданные книги. Ступни, с сжатыми точно в кулак пальцами, короткие, как копыта, болтались в воздухе; после его знакомства с гестапо пальцы ног у него скрючились и переплелись между собой. Карапасс устанавливал книги на полки. Для этого ему не приходилось взбираться на табурет, он был такой длинный, что, вытянув руку, мог бы без труда коснуться потолка. Голос у него был громкий и пронзительный.
— Не могу найти, — говорил он, — это ты ее выдал, посмотри, ведь это же твой почерк. Теперь Дюма — неполный. А кто, по-твоему, будет читать неполного Дюма?
Робер положил перо.
— Ее вернули, раз ты ее не можешь найти, значит, ты сам куда-нибудь засунул. После твоей уборки вообще ничего не найти, будто нарочно…
— Только повтори еще раз, что я делаю это нарочно! Как двину в морду!
Карапасс положил книгу, которую держал в руках, и с угрожающим видом пошел на Робера.
— Не дури… — Робер снова взялся за перо. — Могу сказать тебе только одно: вернули оба тома, я положил их вот сюда… Что за странный гул сегодня на улице! Посетители, что ли, скандалят?
Карапасс прислушался: действительно, на улице стоял необычайный шум.
— Не знаю, что там такое… Твой лжесвидетель, кюре, больше не приходит, а?
Карапасс был антиклерикал, он был вообще анти, и так всех и все ненавидел, что самый воздух вокруг него, казалось, щетинился от злости.
— Ну и орут… — добавил он.
Они немного помолчали, прислушиваясь; с улицы доносились голоса, крики, топот, и все это — на фоне гула, как будто в театральном зале перед поднятием занавеса.
— Что там такое?
Робер встал. Он скорее догадался, чем услышал… Пот ручьями струился по его лицу. Уж не сходит ли он с ума? Но, посмотрев на Карапасса, он понял, что не бредит… Впрочем, то, что поначалу словно померещилось ему, теперь разом ворвалось в камеру, как оглушительный громовой клич:
— Робер Бувен! Робер Бувен! Робер Бувен!
— Что-то кричат, — сказал Робер и закашлялся — у него пропал голос.
Послышалось щелканье ключа в замке; надзиратель в хаки сказал:
— Выходи…
— Что случилось? — Карапасс был бледен.
— Молчать! — заорал надзиратель.
Был час прогулки, двери стояли открытые, камеры пустые. Надзиратель, шагая, в застекленном проходе между двумя рядами внутренних дворов, глядел на подходивших Робера и Карапасса и не прибегал ни к пинкам, ни к брани. Он просто открыл дверь внутреннего двора, куда должен был войти Робер. Сюда еще яснее доносился рокот улицы. Около двадцати человек уголовников молча, не двигаясь, слушали. Увидев вошедшего Робера, они слегка подались назад. Он, как всегда, сел на корточки на своем обычном месте, прислонившись спиной к стене. Все остальные смотрели на него.
«Робер Бувен! Свободу Бувену! Свободу Бувену!»
— Кто это там кричит?
Это спрашивал у него шепотом Жюль Татуированный, парень, по натуре отнюдь не робкого десятка.
— Мои товарищи, — ответил наконец Робер с блаженной улыбкой. — Нас в стране целая орава, больше миллиона.
«Свободу Бувену!» — оглушительно рычал голос из репродуктора, и ему, несколько потише, вторили другие голоса, и низкие и пронзительные: «Свободу Бувену!» Затем голоса умолкли, и остался лишь гул толпы, но и тот понемножку стихал, стихал…
Когда заключенные гуськом двинулись к своим камерам, надзиратель сказал проходившему мимо него Роберу:
— Как бы нам от тебя отделаться? В конце концов они возьмут тюрьму штурмом! Драться из-за вашей милости — только этого не хватало.
Робер весь сжался, но надзиратель не пнул его… Дверь камеры закрылась за ним, эта дверь без ручки, бесполезная вещь, все равно что чайник или чемодан без ручки… В одной камере с Робером сидел старый нищий, немного не в своем уме, но тихий. Возможно, этот нищий и был «наседкой», однако ему, несомненно, не поручали прикончить Робера, с ним Робер был спокоен, когда же он сталкивался с ЛВФ и петеновскими молодчиками, которые осыпали его бранью и угрозами, Роберу казалось, что живым ему из тюрьмы не выбраться. Робер сел на соломенный тюфяк, валявшийся на полу. Он ликовал, никогда еще он не испытывал подобного счастья. Что бы ни случилось, он все равно не одинок! Пусть воздвигают стены, пусть запирают на замок двери… Рукавом рубашки Робер вытер глаза, нос — носового платка у него не было, — лег на живот, уткнувшись лицом в ладони и тихонько всхлипывая; плечи его тряслись… Старик нищий не обращал на него внимания; съежившись в углу, он что-то невнятно бормотал. Понемногу Робер успокоился, сел на своем тюфяке и начал рыться в коробке, где хранились все его сокровища: два окурка, фотография родителей, лента военного креста, письма родителей и кремайского кюре. Их он перечитывал в сотый раз:
7 августа 1946 [55]
Мой дорогой Робер! — писал кюре. — Меня очень порадовали добрые вести, переданные мне твоей матерью по ее возвращении из П. Ты прав, конечно, ты скоро выйдешь из тюрьмы. Мы тоже надеемся, что твое освобождение не за горами, и адвокат разделяет нашу надежду.
Твое дело постарались всячески запутать, и с первой же минуты тебе ставили в вину главным образом то, что ты принадлежал к движению Сопротивления и выполнял свой долг, перенося всякие мучения, в то время как другие пользовались плодами твоей самоотверженности. Ты можешь этим гордиться, потому что страдать во имя справедливости всегда благородно. И когда ты в скором времени вернешься к нам, никому из нас не придется краснеть, ведь мы не отреклись от тебя. Поздравляю с получением военного креста и надеюсь, что он будет торжественно вручен тебе.
Требуй, чтобы занялись лечением твоих язв, которые у тебя остались после пыток в гестапо, нельзя их запускать — иначе это может привести к общему заражению.
Я огорчен, что в последнюю пятницу не мог навестить тебя, но запрет столь же категоричен, сколь и глуп. Представляешь, служащий префектуры сказал мне, что в свидании отказывают даже сожительницам… А мне тем более, я служу по другому ведомству… Чистейшая комедия, но что поделаешь — начальство…
Как всегда, читая это место, Робер долго смеялся…
Твоя мать и все твои друзья присоединяются ко мне, шлют тебе самые сердечные, самые нежные дружеские приветы. Еще раз до скорого свидания.
На самой середине страницы очень жирный тюремный штамп клеймил письмо и дружбу…
29 августа 1946
Мой дорогой Робер!
Последние дни я разъезжал и изрядно переутомился; этим и объясняется мое временное молчание, но мы не перестаем думать о тебе и о твоем освобождении. Мы видели в П. секретаря твоего адвоката, который был у тебя и передал, что все идет хорошо. Очень досадно, что наступившие каникулы значительно оттянут твое возвращение к нам. Ты держишься молодцом и правильно делаешь, потому что настоящая причина твоего заключения нам неизвестна или, вернее, слишком хорошо известна: так же, как во времена гестапо, ты страдаешь безвинно. Раз твое алиби установлено и не вызывает ни малейшего сомнения, просто возмутительно, что тебя продолжают держать в этом семейном пансионе. Больше того, во время праздников в честь Освобождения, когда народ снова ощутил свое единство, мы думали о тебе, имя твое переходило из уст в уста, упоминалось во всех речах. Кроме того, по всему округу ходит петиция, под которой подписывается все население. Видишь, твои земляки тебя не покидают, они не считают тебя тем, кем ты не являешься и кем никогда не был.
Все это, дорогой мой Робер, должно поддержать тебя. Прибавлю, что сестры милосердия из богадельни и все тамошние старички тоже подписываются под этим листом; разве не трогательно, что наши старички, как и все остальные, верят в невиновность того, кто остается для них по-прежнему маленьким Робером…
Восьмого сентября сердце твое будет биться вместе с нашими сердцами и молитвы наши вознесутся к милосердной, о нас слезы, льющей Богоматери, дабы она возвратила тебя нам, как в тот раз, когда она спасла тебя от гестапо.
Прими, мой дорогой Робер, новые уверения в моей глубокой и искренней симпатии…
Письмо это было написано столько же для Робера, сколько и для тех тюремщиков, что ставили штамп. Письмо — защита…
Последнее было датировано 10-м сентября 1946.
Слышал ли ты, — говорилось в нем, — о движении в П. и в Кремае: все требуют твоего освобождения. Это очень трогательно, потому что все мы, от аббатов до коммунистов, объединились вокруг твоего имени, отбросив все, что, казалось бы, в плане идей, должно было нас разъединять.