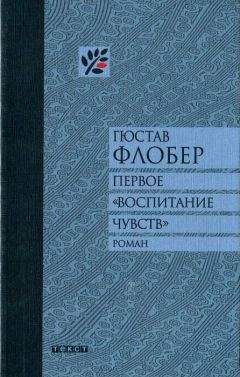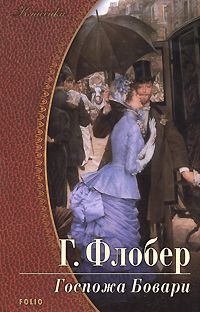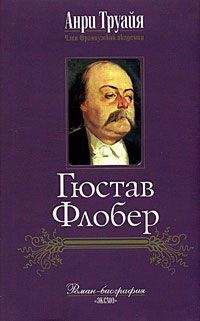Толковали о политике: прокляли Англию, пожалели Испанию, терзаемую рознью придворных клик, оплакали вырождающуюся Италию и поверженную Польшу.
Дамы молчали или же щебетали об изящной словесности, что одно и то же. Тернанд пустился в рассуждения перед мсье Ленуаром: тот хотел заказать кому-нибудь свой портрет и обсуждал с ним выбор живописца; естественно, служитель муз настойчиво рекомендовал своего преподавателя. Анри с жаром распространялся о Бетховене, чьих опусов никогда не слышал, перед мадемуазель Аглаей, не понимавшей, о чем он толкует. Мадам Эмилия не проронила ни слова. Мендес не сводил глаз с мадам Дюбуа. Карселевые лампы[19] коптили.
За десертом разговор зашел о литературе и сделался общим, коснувшись бессмертия драмы и того неоспоримого влияния, какое она оказывает на всех современных правонарушителей. Немало хулы излили на модного в ту пору «Антони»;[20] процитировали, чтобы вдоволь посмеяться над ними, два-три стиха из «Эрнани»,[21] отпустив по их поводу несколько острот; потом принялись хвалить Буало, этого законодателя Парнаса. Мсье Рено прочел из него наизусть целый ряд изречений, как-то: «Невероятное растрогать не способно, пусть правда выглядит всегда правдоподобно», или «Умение во всем…», или «В поэме важен стиль…» и тому подобные поэтические изыски. Что повлекло за собой непременную параллель «сладостного» Расина и «великого» Корнеля, за коей последовали сравнения Вольтера и Руссо. После чего Тернанд и Анри не оставили живого места от литературы имперской эпохи,[22] ибо тяготели к «высокому» в искусстве, в то время как люди серьезные, от сорока до пятидесяти лет от роду, склонялись к преимуществу «вкуса» и «слога». Поговорили также о Викторе Гюго и мадемуазель Марс[23] и о Комической опере; о «Роберте-Дьяволе»,[24] о цирке и о добродетели комедианток, затронув и то, как эти актерки добиваются Монтионовской премии.[25] Тернанд пришел в экстаз, побагровел и сделался многоречив, превознося «Нельскую башню»;[26] господа Ленуар, Дюбуа и Рено подсмеивались над его пылкостью; Анри избрал серьезный тон и вполголоса заговорил с мадемуазель Аглаей о «Жослене»;[27] мадам Дюбуа поминала старое доброе время Комеди и «Манлия»[28] в исполнении Тальма; Мендес все смотрел на мадам Дюбуа.
Появилось на столе и пресловутое шампанское, это по преимуществу французское вино, которое имело несчастье дать пищу стольким куплетам, как и оно французским и настолько же занудным. Хозяин дома потер горлышко пемзой, освобождая пробку, та выстрелила в потолок — дамы вскрикнули от неожиданности — и упала на крышку сырницы, гулко отозвавшуюся на удар. Наполненные бокалы передавались по цепочке, все делалось в спешке и не слишком аккуратно, пена капала на скатерть и на пальцы, дамы хихикали; да, есть на свете минуты незамутненного счастья!
После обеда, уже в гостиной, мадам Эмилия отвела Анри в сторонку и сказала несколько одобрительных слов о том, каких он придерживается воззрений.
— О, я слышала все, что вы говорили! — восклицала она. — Вы высказывали вслух именно то, что я думала. Как вы их всех победили! Я полностью на вашей стороне, да что там — вы были правы, тысячу раз правы!
— Я был не прав, — медленно, делая долгие остановки перед каждым словом, произнес он. — Для чего выражать какие-либо чувства перед теми, кем ничто не движет, и желать, чтобы частицы той поэзии, что переполняет ваше сердце, передались сердцам, навсегда для нее закрытым? Все это — напрасный труд и глупость, безумие какое-то, болезнь, которой я часто болел в прежние годы, но теперь каждый день несет мне исцеление.
— А вы, случаем, не поэт?
— Кто вам это сказал?
— Догадалась.
— Но я люблю читать поэтов, — продолжил он, пропустив мимо ушей ее последнюю реплику. — А вы?
Разве вам не приятно иногда укачивать себя ритмом строк, когда мечта гения уносит вас прочь, туда, где золотые облака, подальше от всех известных вам миров?
Пока он говорил, мадам Рено не спускала с него глаз. Потом проговорила с жаром неутоленной пытливости:
— Это великие минуты счастья, не правда ли?
Беседуя таким образом, они перешли к историям знаменитых любовных увлечений на театре, самых элегичных и нежных, в мыслях они уже впивали сладостный воздух звездных ночей, запахи летних цветов; они перечисляли друг другу книги, заставившие их плакать, мечтать, перечувствовать Бог весть что… Они размышляли вслух о житейских невзгодах и о солнечных закатах, их беседа длилась недолго, но оказалась чрезвычайно насыщенной. Каждое их слово сопровождали взгляды. Сердца бились в согласии. Мадам Рено восхитило воображение Анри, а того прельстила ее душа.
Мадемуазель Аглаю попросили спеть, она уселась за пианино, нанизала одну на другую несколько гамм, испустила некое ржание, победоносно фыркнула — и принялась распахивать целину клавиатуры. Никто не разобрал ни слова в той итальянской арии, что извлекла она из недр гортани. Но коль скоро вещь была длинна, все зааплодировали, когда она подошла к концу. Немец, чьим мнением об услышанном все было заинтересовались, сослался на свое полное неведение в том, что касается музыки, чем немало позабавил гостей, ведь немцы всегда слыли музыкантами.
Альварес, притулившийся у пианино в уголке на все то время, пока пела мадемуазель Аглая, и один раз подобравший перстень, свалившийся с ее пальца, а в другой — подавший ей тетрадку с нотами, вечером, ложась спать, сообщил своему приятелю Мендесу:
— Тебя там не было, когда я стоял рядом с ней, ты не видел ее глаз. Когда она пропела «Amor Veni!»- о, я ощущал трепет ее длинных локонов, от нее веяло теплом! О, какое теплое, благоуханное дуновение! Как могла бы любить эта женщина, как чудно она поет!
На что Менцес в ответ забубнил:
— О, как хороша шея мадам Дюбуа! Какая грудь! Ты разве не заметил, тогда, за десертом, когда она заговорила, как она вздымалась и опускалась? Направляясь к карточному столу, она прошла так близко от меня, что я щекой почувствовал ее сладостное тепло… Боже, какое счастье — быть возлюбленным этакой женщины!
А Анри? Возвратившись к себе, он медленно раздевался, смутно грезя неизвестно о чем и улыбаясь чему — то внутри себя. На каминной полке он нашел ключ, тот самый, что некогда был у мадам Рено. Она еще крутила его в пальцах и случайно забыла… тут он вспомнил, как она тогда непринужденно держала себя, как очаровательно выглядела. Прежде чем лечь, он застыл у края постели, можно было бы подумать, что кто-то на ней уже лежит. Это она облокотилась на кровать, разглядывая портрет Луизы; покрывало было чуть сдвинуто в строну, коврик в изножии потревожен. Он скользнул в постель с осторожностью, опасливо подрагивая, — им овладела неосознанная потребность сохранить нетронутым этот милый беспорядок.
Тысячи ласковых грез баюкали его, полусонного, и ночью ему приснилось, что он прогуливается с ней по длинной липовой аллее, они шли, сплетя руки, и грудь его разрывалась от избытка чувств. Альваресу грезились длинные локоны бледных дев, и все его тело трепетало от прикосновений этих волос. Мендес тоже видел сон… он исходил там «смертною истомой» на обнаженной груди китаянки.
VIII
От Жюля к Анри
Вот уже две недели, как я не получал от тебя вестей. Что с тобой происходит и что ты делаешь, дорогой мой Анри? Почему так опаздываешь с письмом? Бывали времена, когда мы считали пропащим всякий день, в который нам не удалось повидаться; сколько таких дней приходится переживать из-за твоей же нерадивости! Вспоминаешь ли ты еще обо мне? Когда ты уезжал, а я смотрел, как дилижанс увозит тебя, я после этого вернулся домой опустошенный и безутешный, как если бы у меня отняли половину моего сердца; я долго плакал, и мне было тем горше, что такую огромную боль я испытывал впервые. Теперь ты в Париже, ты ведешь другую жизнь, возможно, у тебя завяжутся новые дружеские связи, ты станешь появляться в свете, быть может, найдется женщина, что тебя полюбит, и ты в свой черед воспылаешь к ней любовью, сделаешься счастлив и забудешь обо мне.
Что до меня — здесь все без изменений: в девять часов я иду в свою контору, выхожу оттуда в четыре и прогуливаюсь до обеда. Завтрашний день будет похож на вчерашний, монотонность эта раздражает. Только по вечерам я немного пишу или перечитываю кое-какие книги из самых любимых, которые мы читали вместе, с энтузиазмом декламируя те пассажи, что обожали всем сердцем, то есть снова думаю о тебе. О, какая же здесь скука! Тоска смертная! Что за жизнь я веду! Над столь жалкой участью я бы сам посмеялся, если б не было так грустно! О, мои мечты, где вы?.. Что тут скажешь? Вот я уже оплакиваю собственные мечты, а мне нет еще двадцати, что же будет, когда стукнет тридцать, когда появятся седые волосы?