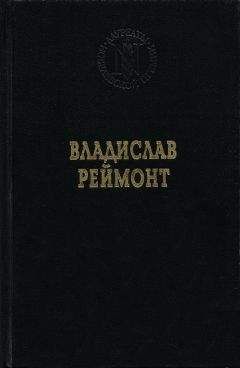Боровецкий, холодно глянув на Штёрха, сказал:
— Хорошо, завтра я вам пришлю список названий.
— А мне бы хотелось иметь этот список теперь, прямо здесь.
— Здесь я могу написать лишь несколько названий, а остальное завтра.
— Какой вы добрый! — весело сказала она, но, заметив на его губах ироническую усмешку, заалелась как маков цвет.
Он написал названия на окаймленной гербами визитной карточке, простился и вышел.
В коридоре ему встретился старик Шая Мендельсон, истинный ситцевый король, которого все звали просто Шая.
Это был высокий худощавый еврей с большой белой бородой патриарха, ходил он обычно в длинном кафтане до пят.
Шая всегда бывал там, где, по его предположениям, должен был быть Бухольц, главный его соперник в ситцевом королевстве, самый крупный фабрикант в Лодзи и потому личный его враг.
Шая преградил дорогу Боровецкому, который, приподняв шляпу, хотел пройти.
— Здравствуйте, пан Боровецкий! Германа сегодня нет. Почему? — спросил Шая с явным еврейским акцентом.
— Не знаю, — отрезал Боровецкий, который Шаю терпеть не мог, как, впрочем, и все в Лодзи, кроме евреев.
— Прощайте, пан Боровецкий, — сухо и презрительно бросил Шая.
Боровецкий, не ответив, поднялся во второй ярус, в одну из лож; там красовался целый букет нарядных женщин, в обществе которых он обнаружил Морица и Горна.
В этой ложе было необычайно весело и очень тесно.
— Наша малютка играет замечательно, не правда ли, пан Боровецкий?
— О да, и мне очень жаль, что я не припас букета.
— Зато у нас есть, мы ей вручим его после второй пьесы.
— Вижу, что здесь безумно тесно и безумно весело, и у дам уже есть целая свита, так что я удаляюсь.
— Останьтесь с нами, будет еще веселей, — попросила одна из дам, в сиреневом платье, с сиреневым лицом и сиреневыми веками.
— Веселее, пожалуй, не будет, а вот теснее уж наверняка, — воскликнул Мориц.
— Тогда выйди ты, сразу станет свободней.
— Если б я мог пойти в ложу Мюллера, вышел бы не задумываясь.
— Могу тебе это устроить.
— Выйду я, и места сразу прибавится, — вскричал Горн, но, перехватив молящий взгляд девушки, сидевшей у барьера ложи, остался.
— А знаете, панна Мария, во сколько ценится панна Мюллер? Пятьдесят тысяч рублей в год!
— Вот это девица! Я бы от такого куша не отказался, — промолвил Мориц.
— Придвиньтесь поближе, я вам кое-что расскажу, — прошептала сиреневая и наклонила голову, так что ее темные пушистые волосы коснулись виска нагнувшегося к ней Боровецкого.
Заслоняясь веером, она долго что-то шептала ему на ухо.
— Нечего секретничать! — воскликнула старшая из дам в ложе, одетая в стиле барокко красивая сорокалетняя женщина с ослепительно свежим цветом лица и совершенно седыми, необыкновенно пышными волосами, черными глазами и бровями и величественной, горделивой осанкой, — она, видимо, верховодила в ложе.
— Пани Стефания рассказывала мне любопытные подробности об этой новой баронессе.
— При всех она этого, наверно, не повторит, — заметила дама в стиле барокко.
— Ого, панна Мада Мюллер изволит нас лорнировать!
— Она сегодня похожа на молоденькую, жирную ощипанную гусыню, обернутую в зелень петрушки.
— Пани Стефания сегодня притворяется злюкой, — сказал Горн.
— А вот та, Шаева дочка, да на ней целый ювелирный магазин!
— Пожалуй, хватило бы и на две ювелирные лавки, засмеялся Мориц и, нацепив пенсне на нос, посмотрел вниз, на ложу Мендельсона, где с отцом сидела разодетая с невероятной роскошью младшая из его дочерей и рядом с нею еще одна девушка.
— Которая ж из них хромая?
— Ружа — та, что слева, рыжая.
— Вчера она была в моей лавке, перерыла все как есть, ничего не купила и ушла, зато у меня было время ее рассмотреть, она совсем дурнушка, — сказала пани Стефания.
— Да нет же, она красавица, она ангел, да не один ангел, она четырнадцать, пятнадцать ангелов сразу, — стал выкрикивать Мориц, передразнивая старика Шаю.
— До свиданья, милые дамы! Пошли, Мориц, с дамами останется пан Горн.
— Может быть, зайдете к нам на чай после театра? — обратилась ко всем сиреневая, глядя на Боровецкого.
— Премного благодарен, завтра могу зайти, а сегодня никак.
— Вы что, приглашены к Мюллеру? — с некоторым ехидством спросила сиреневая.
— Нет, иду в «Гранд-Отель». Сегодня суббота, приезжает, как обычно, Куровский, и мне с ним надо обсудить чрезвычайно важные дела.
— Так поговорите с ним в театре, он же должен быть здесь.
— Да он в театр не ходит. Разве вы его не знаете?
И Боровецкий, откланявшись, вышел из ложи, пани Стефания проводила его каким-то странным взглядом.
Представление уже давно началось, и Боровецкий, пройдя к своему месту, сел, но слушать ему не дали, вокруг стоял гул от таинственного перешептывания.
Все были удивлены тем, что во время представления вызвали из ложи Кнолля, зятя Бухольца, который сидел там один, как раз напротив ложи Цукера, а потом из зала потихоньку вышел Гросглик, крупнейший лодзинский банкир.
Ему принесли телеграмму, с которой он поспешил к Шае.
Все эти подробности сообщались шепотом и с быстротой молнии распространялись по залу, пробуждая смутную, неосознанную тревогу у представителей различных фирм.
— Что случилось? — спрашивали они друг у друга и не находили ответа.
Женщины были увлечены спектаклем, но большинство мужчин в партере и в ложах беспокойно следили за поведением лодзинских королей и корольков.
Мендельсон сидел сгорбившись, сдвинув очки на лоб, и время от времени величественным жестом поглаживал свою бороду, — казалось, он был совершенно поглощен представлением.
Кнолль, всемогущий Кнолль, зять и преемник Бухольца, возвратился и тоже внимательно смотрел пьесу.
Мюллер, вероятно, и впрямь ничего не знал — он хохотал во все горло над доносившимися со сцены остротами, хохотал так искренне, что Мада то и дело шептала ему:
— Папа, ну нельзя же так.
— А я заплатил, вот и веселюсь, — возражал он и действительно веселился на славу.
Цукер исчез, и Люция сидела в ложе одна и опять не сводила глаз с Боровецкого.
Магнаты помельче и представители таких фирм, как Энде-Грюншпан, Волькман, Баувецель, Биберштейн, Пинчовский, Прусак, Стойовский, все тревожней ерзали в своих креслах, сообщения передавались шепотом из ряда в ряд, ежеминутно кто-нибудь выходил и уже не возвращался.
Встревоженные взгляды рыскали по залу, на устах застыли вопросы, всеобщее беспокойство усиливалось.
Никто не мог объяснить, в чем его причина, но все были убеждены, что случилось что-то очень важное.
Постепенно опасения проникли даже в души тех, кому нечего было бояться дурных вестей.
Просто все ощутили колебания почвы города Лодзи, в последнее время подверженного все более частым катаклизмам.
Только галерка ничего не чувствовала, развлекалась от души, веселилась всласть, хохотала, хлопала, кричала «браво!».
Оттуда, сверху, смех налетал как бы волнами и гулким каскадом звуков рассыпался над партером и ложами, над всеми этими головами и сердцами, внезапно объятыми тревогой, обрушивался на эти миллионы, расположившиеся на бархате, сверкающие брильянтами, чванящиеся своей властью и величием.
Из всех лож только в ложе знакомых Боровецкому дам искренне развлекались и весело хлопали в ладоши.
Посреди этого волнующегося моря кое-где образовались как бы неподвижные рифы — то были сидевшие спокойно и глядевшие на сцену семьи, по преимуществу польские, которых ничто не могло встревожить, ибо им нечего было терять.
— Это хлопок, — шепнул Боровецкому Леон. — С мотрите, шерсть и другие сидят как ни в чем не бывало, им только интересно знать, в чем дело. Уж я-то разбираюсь.
— Фрумкин в Белостоке, Лихачев в Ростове, Алпасов в Одессе — банкроты! — бросил Мориц, откуда-то узнавший эти новости.
Все трое были оптовые торговцы, из самых крупных лодзинских клиентов.
— Сколько у Лодзи вложено? — спросил Боровецкий.
Мориц опять вышел и несколько минут спустя возвратился, он был бледен, рот кривился, в глазах странный блеск — от волнения он не мог сразу надеть пенсне.
— Еще один. Рогопуло в Одессе. Все самые надежные фирмы, самые надежные.
— Большие убытки?
— Лодзь теряет миллиона два! — удрученно сказал Мориц, стараясь надеть пенсне.
— Не может быть! — почти закричал Боровецкий, вскакивая с места, зрители в заднем ряду даже зашикали на него, чтобы не заслонял сцену. — Кто тебе сказал?
— Ландау. А уж если Ландау говорит, так он знает точно.
— Кто теряет?
— Все понемногу, но Кесслер, Бухольц и Мюллер больше всех.
— Но как же тех не поддержали, как допустили такой крах?